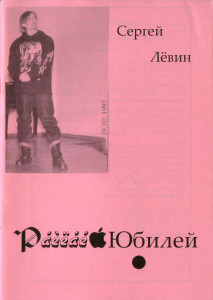Сергей Лёвин. Юбилей
Тамбов, 2006. – 44 с.
50 штрихов к портрету
От автора.
Как-то само собой, незаметно и быстротечно, пролетели 10 лет с того знаменательного момента, когда ваш покорный слуга вышел на сцену тамбовской библиотеки имени Пушкина и впервые прочитал вслух три своих стихотворения при широкой и почтенной аудитории.
Это было одно из тех чудесных выступлений литературной студии «АЗ», когда все мы были молоды и азартны, немножко эпатажны и очень горячи. Ещё ни у кого не было собственных книг, кто-то делал только первые робкие шаги в литературе, кто-то искал свой путь, кто-то писал, потому что по-другому просто не мог.
Наш руководитель Сергей Бирюков давал нам возможность читать стихи не только в пределах студии, но и на таких вот творческих вечерах. И каждый раз появлялся стимул удивлять, достигать новых результатов, впечатлять.
Помню, как спустя несколько дней в одной из тамбовских газет вышла статья, в которой каждому из нас, выступавших, были даны эпитеты. «Задумчивый» Минаев, «авангардный» Шепелёв, «лиричная» Владимирова. Мне достался ярлык «экспрессивный». С той поры я всегда старался соответствовать этому имиджу и каждое своё выступление превращал в некий почти театральный акт. Тогда я понял, что стихи должны ЗВУЧАТЬ.
Сколько раз с той февральской поры я выходил на сцену? Сколько стихов шептал, орал и артикулировал вам, моим друзьям? Не так уж и много, не так уж и мало.
И в эту импровизированную, «не номерную» книгу вошли стихи, которые чаще всего звучали на сцене. Несколько текстов из «Упал со стула», несколько из «Снайпера», а также те, которые ещё не были опубликованы. Всего их 50.
Это 50 лучших моментов моей жизни, 50 штрихов к моему портрету, 50 оттенков самых разных чувств – от любви до ненависти, от страха до страсти, от смеха до горечи…
***
Я приду ночью, принесу звёзды,
осыплю тебя сияньем зеркал,
распахну окно, разорву простынь –
я ведь почти всемогущим стал.
Я приду ночь, поцелую в губы,
проведу по щекам сухим языком.
Загудят в темноте полночные трубы,
и станет тогда вкус любви мне знаком.
Я приду ночью, разгоню тучи,
пусть луна покрасуется в небе – как ты.
А затем совершу полёт с горной кручи,
чтоб на чёрных лугах собирать цветы.
УТРЕННЕЕ
Больно бью по морде утра.
Ночь закончилась. Не надо!
Мне взгрустнулось почему-то.
Достаёшь опять помаду.
Подожди! Усни же, время,
задержи хоть ненадолго
обороты! Я мгновенье
отдышусь. Тамбовским волком
выть хочу, трещать зубами,
рвать будильник хищной пастью.
Утро встало между нами
неприятнейшей напастью.
Утро съело наши души,
утро выплюнуло ласку,
утро с неизменным душем,
ослепляющей повязкой
солнцесвета. Ранозорью
заслонило нам дорогу,
просолило раны болью.
Утро, как же ты убого,
ограниченно, противно!
Ненавижу!!!! Но деваться
некуда. Гнетёт рутина
утренних часов кастраций.
Отклониться? – Нет пространства.
Увернуться? – Невозможно.
Смены суток постоянство
бьёт меня в ответ по роже.
МЫШЛЕНИЕ ПО-НОВОМУ
Мыслю категориями «Тетриса»:
куда вставляется эта штука?
А как замечательно она вертится,
рассыпаясь из дома по переулкам?!
Открывая двери длинноте моей,
исчезает за рядом ряд.
К символу отцов и матерей
поверну то перёд, то зад.
Новогодний подарок – игра в квадраты.
Смотри, так устроена семья!
Вне её почему-то мне не рады:
пришёл, чтобы осеменять?
Нет, я просто мыслю «Тетрисом»!
Его дисплей стал иконой.
Десять перекладин вместе – лестница,
ничего кроме.
ПАЛОМНИЧЕСТВО
В церковь мужики спешили,
кто – с похмелья, кто – с попойки,
пешим ходом, на машине,
было их несчётно сколько.
Перед алтарём стояли,
рукавом нос утирая;
мускулы прочнее стали,
сила лютая, мужская.
Ухмыляясь, рвали майки
на груди перед иконой:
«Все враги у нас – собаки!
Мы ж народ примерный, скромный.
Ты прости нас, Символ Веры,
ты слезу пусти, Мария.
Мы – народ повсюду первый,
наша мать – земля Россия.
Нам пошли еды и злата,
да грехи прости все разом,
а за это будет платой
поклонённый Богу разум».
Горбились, скрипя зубами, –
не в почёте зря гнуть спину –
окончанья службы ждали,
чтоб вернуться к бочкам винным,
и, плюя на пол украдкой,
прочь спешили удалиться,
подтираясь правдой-маткой,
пряча комья льда в глазницах.
ЛИРИКА
Мы целуемся только во сне:
ты становишься зримо-реальной.
Я хочу тебя маниакально
оттащить от проёма в стене.
По аорте струится вода,
лимфатический узел развязан.
Я, в преддверье рассудочной казни
задыхаясь, шепчу только «да».
Из меня вытекают слова,
словно гной, отторгаемый раной.
Отдираю лицо от экрана,
где чернеет глобальное «2».
Нас пленили жестокие «не»:
не должны, не имеете права,
непоэт, неудачная пара.
Мы целуемся только во сне.
МАЛЫШ
Тихого мальчика, шляясь от скуки,
я повстречал в чьём-то старом подъезде.
Прятали яблоко слабые руки
с тонкой резьбою кошачьих отметин.
Плод между пальцев темнел перезрелый,
червем изъеденный, сочный и мятый.
Молча дитя поверх плода смотрело
так, что мне стало на миг неприятно.
Мудрый огонь в понимающих глазках,
трио зубов врассыпную по дёснам.
Хочешь, малыш, расскажу тебе сказку,
сказку о том, как непросто быть взрослым?
Нет, – обитатель подъезда ответил.
Фруктов палач и гроза иномарок,
сцен непристойных случайный свидетель,
драк и разборок видавший немало,
многое знает: ни в чём не нуждаясь,
мир пропускает сквозь призму понятий
детских и чистых, а подлость, и жалость,
и сладострастные вопли проклятий,
и пересуды банальных соседей,
и сексуальные игры подростков
слишком понятны взрослеющим детям.
То, что нам сложно, для них очень просто.
Яблоко – схема гниющего мира –
пальцами сжато. Испачкана кожа
юного старой Земли властелина.
Он господин, и ему всё возможно…
Он усмехается. Я убегаю,
трудно дыша, спотыкаясь убого,
нехотя в недрах души сознавая,
что повстречал настоящего Бога.
ВЕТРЫ
Солнце стекало медленно
тухлым желтком яичницы,
свет разливался веером
скудным до неприличности.
Рядом луна карабкалась
мокрая и голодная
по неживой параболе,
видимой телескопами.
Пели светил соцветия
о позабытой юности,
небо лучилось клетями,
почва трещала сухостью.
Люди молили вышнего,
мёртвые спали хлопотно.
Ветры сносили крыши нам
звероподобным рокотом,
мазали лица копотью,
звали в дороги дальние,
через костры жестокие
к бешенству на свидание.
Шли мы, большие, гордые,
резали камнем тайнопись,
утром теряли головы
и Люциферу кланялись.
СВИДАНИЕ
Раскрылясь широким шагом,
в никуда из ниоткуда
я спешил, ведь дома ждало
моё маленькое чудо.
Блёстки глаз в окно смотрели,
ожидая скрипа, стука.
Я бежал, сквозил метели,
от мороза громко ухал.
Торопясь, топил сугробы,
камнем падал в котлованы,
но взбирался вновь по склонам:
поздно – плохо, лучше – рано.
Мышцы ног порой сводило:
пальцем расправлял под кожей
ткань промёрзшую, рвал жилы,
в спешке был неосторожен.
И успел! За чёрной дверью
бросило битьё посуды
и повисло мне на шею
моё маленькое чудо.
ЛЮБИТЬ
Я шёл добровольно в любви мясорубку,
мне нравилось, как тело рвали ножи.
О череп разбил телефонную трубку,
когда, задыхаясь от страсти, спешил
услышать хоть отзвук знакомого тона,
залил нервной кровью весь письменной стол,
но мир вместо стерео сделался моно,
когда я дар речи опять приобрёл.
Я прыгал в окно, загребая руками
воздушные массы в попытке лететь,
и точки невидящих глаз провожали
нелепейший выбор: не жизнь и не смерть.
Вздымал рваный стяг безнадёжных иллюзий,
молчал, захлебнувшийся чувством весны,
наотмашь рубил безразличия узел
и бога молил об одном: «Не усни!»
Бежал напролом, разбивая барьеры,
стократ опрокинут был навзничь – вставал!
Чтоб всем доказать: я пока ещё смелый,
я сердцем могу переплавить металл.
Из каждой любви возвращался калекой,
протёртым в салат, обожжённым в печи,
смеялся, хоть было подчас не до смеха,
ведь можно улыбками раны лечить.
Сейчас наливаюсь кипением силы:
подняться с земли, устоять, победить.
Назло зачерствевшим душою гориллам,
восставший единожды, буду любить.
***
Засунь мне голову в тиски
и подзажми её слегка,
чтоб скорчились внутри мозги
и кровь из носа потекла,
чтоб карие мои глаза
упали на дощатый пол,
разбились, словно два яйца,
рассыплясь горсткою стекол,
чтоб череп треснул и погас
огонь, что теплился во мне,
чтобы в последний жуткий раз
уснул я в бесконечном сне.
А ты мне скажешь, что настал
потехи час, когда пески
укроют мир, вершины скал…
Зажми мне голову в тиски!
ЭТО ВЧЕРА
Это вчера уже было,
это вчера не вернётся,
это вчера – время пира,
харканья в полость колодца.
Это вчера – мякоть снега,
это вчера – копоть солнца,
это вчера – плод разбега
ввысь камикадзе-японца.
Это вчера… Я остался
там бы, но кончились рельсы.
Этим вчера замарался
в грязь пессимизма и спеси.
Этим вчера колокольня
выла, звала на обедню.
Это вчера – не сегодня.
Этим сегодня я сбрендил.
Этим сегодня я вымер,
этим вчера я был молод.
Вечность – бескрайняя гибель,
время – карающий молот.
Время – угрюмая осень,
осень – замёрзшая птица,
птица подсолнуха просит,
просит поесть и напиться,
просит водяры ужраться
вусмерть, чтоб снова забыться…
Запечатлел папарацци
наши бездушные лица.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
Кожица века набухла –
глаз на пороге рожденья.
Бывшая девочка-кукла
стонет, соху вожделея.
Красный язык тянет к солнцу
корнем, расширенным в горле,
к свету вот-вот развернётся.
Зреют манящие взгорья,
волосы тянут побеги
по свежевспаханным грядкам,
и разрываются веки –
их культивирует трактор.
По разомлевшему телу
льётся поток удобрений.
Девочка-овощ вспотела,
талии стебель накренив.
На нежных завязях грудок
ало набухли бутоны,
соком играют сосуды,
множатся клеток мильоны.
Веточки ног расправляя,
девочка выгнула спину
и, вспомнив кайф урожая,
расхохоталась невинно.
СКУКА
Окна закрыты, помятая простынь,
воздух, табачным пропитанный дымом.
Я, разложив поуютнее кости,
удочку взгляда на люстру закинул.
В клетку тетрадь, отписавшая ручка,
пятнышки чая на пухлой подушке.
Я, отрицавший понятие «скука»,
лоб размозжил о понятие «скучно».
Магнитофон, зажевавший кассету,
с полуоткрытой осклабленной пастью.
Диктор довольно вещает секреты
пошлых плодов невоздержанной страсти.
Ты откурила свои сигареты,
я получил свой паёк никотина.
Грязно-брехливая лапа вендетты
нас догнала и ладонью сдавила.
Даже видяшник не радует тела,
тело мечтает подняться с кровати
и полететь – может, чуть неумело,
но одолев притяженья проклятье.
Так, обругав троекратно Ньютона,
давшего жизнь теореме паденья,
снова я буду творить монотонно –
больше ведь я ничего не умею.
УРОВНИ
Линия солнца зеркального круга
пляшет на дымчатой крыше.
Мякоть твоя восхищённо-упруга,
но это уровнем выше.
Яркие тени нездешних прохожих
в Лондоне, Риме, Париже.
Сытые руки, довольные рожи –
и это уровнем выше.
Дверь к небесам или, может, ворота…
Думаю не о престиже;
мне не на землю с людями охота,
хочется уровнем выше.
Впалые зенки, махровая кожа,
бит, заражён и обижен.
Быстро нельзя, можно лишь осторожно –
падаю уровнем ниже.
Старые тапки, побритые молью,
топчут зловонную жижу.
Не защищу себя, не успокою –
это мой уровень ниже.
ВЕЧЕР
Вечер. Вечер. Вечер
по комнате сетью минут.
Пол их тенями исчерчен.
Минуты меня добьют.
Пустынна жилплощадь. Около
стоит только письменный стол.
Мороз расколол мои стёкла,
мои нервы мороз расколол.
Ветер. Ветер. Ветер
наизнанку вывернул уши.
Хотелось немного согреть их,
защитить от назойливой стужи.
Мысли вспороты ветром,
взгляд приморожен к трубам.
Зовёт вселенское где-то
при условьи, что буду негрубым.
Свечи. Свечи. Свечи
растопили лицо подтёками.
С трудом расправляю плечи,
чтобы не слиплись в комок они.
И падаю, падаю, падаю…
Траектория: вспышка – вечность.
Вдоль дороги висит гирляндою
тот же вечер и вечер и вечер
СЧАСТЬЕ
Дом мой всегда будет полон поэтов,
творческих личностей разных мастей,
а в разговорах не надо запретов.
Просьба: «Пожалуйста, чая налей».
Кухня и зал, телевизор и видик,
кресла, диван да холсты на стене.
Здесь не охают и не обидят.
Просьба: «Доверьтесь, пожалуйста, мне».
Будем есть хлеб с дорогим маргарином,
новые диски взахлёб обсуждать,
жить своей жизнью и петь свои гимны.
Просьба: «О дружбе нельзя забывать».
Дом мой всегда будет полон поэтов,
станут гостями художник, актёр.
Жить в одиночку – плохая примета.
Просьба: «Вступайте и вы в разговор».
АССИСТЕНТ
Я – ассистент у того, кто всё создал.
Я лишь вторичен. Большому Ему
подобострастно целую запястье,
но тайком пробую сам создавать.
Жаль, что моя стихопроза лишь отзвук
мыслей его, его чаяний, но
я не сдаюсь; так вот стержень за стержнем
литературу как Он я творю.
Я понимаю: судьба подмастерья –
жалкая участь, но всё ж не ропщу.
Может быть, как-нибудь, где-то и в чём-то
Мастера я хоть на миг превзойду.
Это мечта, это эхо надежды,
тающей в бездне жестоких времён.
Но, не поддавшись унынию, верю:
из ассистента растёт компаньон.
ПОЭЗИЯ
В пересечении строк,
между рассыпанных букв –
холод раскинутых рук,
чернью растерзанный Бог.
Я открываю тетрадь,
вновь начиная поход.
Тысячи лет напролёт
буду его продолжать.
Мир распознав до основ,
снова вернусь к чистоте
и запишу на листе:
«Господи, я не готов»…
ТЕЗИСНОЕ
Амфибрахий не станет анапестом,
ямб не сможет сравняться с хореем,
а вот я изменить себя запросто
могу, но не смею.
Утомлённый дешёвою спешкою:
даты, цифры, хвосты снежным комом –
я лепить себя нового мешкаю,
хоть живу под уклоном.
Избавляться от периферийного
мировиденья надо бы, только
неохота. И на призыв: «Сдвинь его!»
отвечаю: «Пошёл-ка…»
Так живу, безразмерный, неправильный,
из таблиц, чётких схем исключением.
Может, правку внести? – Только надо ли?!
Действительно, незачем.
Невозможно себе наступить на тень,
как нельзя чёрный цвет вплавить в радугу.
Обернуться Другим? – Да, порой хотел,
но не надолго.
Мы ж такие как есть. Что искать иных?
Есть в личинах и масках грязное.
Быть растрёпанным по страницам книг
многоразово!
* * *
У каждого из нас есть пара ягодиц
и сгусток головы, напяленный на шею,
а в остальном мы все – сумятица частиц,
назвать которых не могу и не умею.
В любом из нас живёт овчарка или мопс,
а в ком-то бультерьер сидит предельно грозный,
который раскрошить клыками может кость,
короче, ранить вас надолго и серьёзно.
Мы – плачущий народ, скитальцы и скорбцы,
паломники труда, безумцы и изгои.
Всегда стремились вверх, пронзали неба зыбь
и каждый первый стать мечтал супергероем.
Но в результате срок отмеренный истёк –
вернулись по домам, смотреть ТВ, не думать.
Мы так боимся нос казать за свой порог,
ведь страшно потерять лицо в разломах улиц.
Сквозь лежбище утех свой первозданный грех
влачим во глубине души окоченевшей,
мы рады быть как все, но где найти тех всех,
кто независим был от парадигмы Вещи.
И пара ягодиц, и головы пятно,
и рёбер ксилофон, и флейта-позвоночник
нас составляют, но понять нам не дано,
зачем мы гадим на планетную жилплощадь.
НАСТУПЛЕНИЕ ЗИМЫ
За тридевять земель, леса, поля и реки –
отсюда не видать, хоть глаз коли иглой,
хочу я от зимы сбежать или уехать
и даже уползти, спелёнатый пургой.
Мороз вошёл в азарт, снежинок злые иглы
царапают лицо – я так устал спешить,
но если холода меня в пути настигнут
всей силищей своей, останусь вряд ли жив.
Зима идёт, трещит иссохшими костями,
я чувствую спиной её безумный рык
и вижу сквозь туман в глазах, как в жаркой бане
расслабиться смогу, коль не упрусь в тупик.
Темнеет. По степи иду, пар выдыхая,
и знаю: скоро ночь, но вслед за ней – заря.
И если дотяну до солнечного края,
путь пройден был не зря – воистину не зря.
БЫЛИНА
Раз пришла на Русь бяда великая,
как никто про ту бяду не слыхивал,
в телявизере, по радиво не видывал,
в газетёнке самой жёлтенькой не читывал –
прилетела к нама птица Обломинга,
лирохвостая, длиною в десять метров,
чтоб отмычкой-клювом резать сейфы,
выпуская множество несчастьев.
Как навстречу энтой Обломинге
выходил Васёк – забойный парень,
говорил ей таковые речи:
«Уходи отседа, птица-дура!»
Обломинга – это не фламинго,
в голове поболе, чем орехи,
потому-то птичка осерчала
и Васька ударила по темю.
Ухватился Васенька за темя,
брызнул злыми, горькими слезами,
и в ответ как саданёт он птаху,
как он шваркнет горе-Обломингу!
Началась великая тут битва:
то Васёк одержит верх над птицей,
то взъярится насмерть Обломинга
и затюкает бесстрашного Васютку.
Так сражались по три дня и ночи,
не смыкая глаз, без перекура,
а в итоге очень утомились,
друг на друга вороги упали.
Наш Васёк-то выдохся немного,
а коварная подлюка Обломинга
хвать его по доброму по сердцу
своим острым стенобитным клювом!
Ай, закончилась история бы плохо,
кабы не был наш герой в бронежилете.
Зажигалку Zippo вдруг достал он
и спалил все пёрья Обломинге!!
Ликовал народ без малого три года,
танцевал панк-рок, брэйк-бит, индастрил
и поставил памятник Васятке,
что поджёг злодейское отродье.
Как назло, у мерзкой Обломинги
тётушкой была жар-птица-феникс,
и восстала гадина из пепла,
и пошла войною на Расею.
ДОБРЫЙ
Самое доброе создание на Земле –
танцующий торопыжик.
Он безгрешен и беззлобен,
он хорошо знаком с правилами
танго, балета и хип-хопа;
он улыбается приветливее Ульянова
и ослепительнее Гагарина;
он совершенно чужд тщеславию
и начисто лишён прагматизма;
он за всю свою жизнь
никогда никого не обидел,
даже случайно,
даже нечайно;
он готов дарить любовь
В С Е М,
не исключая слизней и квазимод;
он совсем как Римский Папа,
только лучше;
он ласковее самого искусного любовника
и талантливее любого поэта;
он выше выси
и круче кручи;
он – очень добрый и хороший,
он – танцующий торопыжик,
я его люблю.
Жаль, что его никто не видел.
Хорошо, что хоть кто-то о нём прочитал.
СЛЕДЫ
Следы
остаются за нами следы
из огня, из воды, из дерьма, из слюды,
чёрно-белые, яркие,
с почтовыми марками
следы
Нас преследуют наши следы.
Окрик сзади: «А ну, обернись-ка сюды!
Встретим пряником сладким,
сыграем в загадки!»
Следы
Отпечатки ботинок, сапог,
цепочки из разнокалиберных ног
Оставить! Отставить!
Отставить! Оставить!
Следы
Каждый хочет быть выше
нефтяной вышки,
каждый хочет быть круче
мусорной кучи,
каждый хочет быть краше
гречневой каши,
но следы оставляют и те, и другие,
голодные, сытые, франты, нагие.
Сегменты ладони и пальцев печать –
ты вынужден будешь за всё отвечать:
за маму и раму, за дом на Канарах
Следы
Мы обувью пишем на чистых полях
свои боль и страх
и спазмы в ступнях;
плохие, хорошие,
с обрюзгшими рожами;
топ-топ шаг за шагом,
подъём – и в атаку!
Следы
И средь нас никого уже нет,
кто не оставил бы собственный след
Нет
Лишь следы в бесконечность тягучей рекой
за тобой и за мной,
им неведом покой.
Следы……………
***
Я выстоял один. На берегу, под гнётом
волны я не упал. Я выстоял. Один.
И дельтапланерист над мной, как ворон, лётал,
но я не спасовал, а значит, победил.
Я выстоял один. Но смерть воздвигла стену,
и рюмкой о комод, и пылесосом в зёв.
Открылась дверь в скале. Я медленно и ленно
зашёл в пещеру сесть в компашке мертвецов.
Мы вознесли бокал. Кагор потёк по венам.
Я выстоял опять. Ничуть не опьянел.
И снова в глубине груди забилось мерно
то, что дарует жизнь последнему из тел.
Я улыбался. Я опять чрезмерно «якал».
Вселенная внутри молила: «Отпусти!»
Но как презренный червь, как бука или бяка,
старался я углей побольше загрести.
Я вышел из скалы, и вновь морское вымя
солёной пеной мне забрызгало глаза.
Я выстоял назло опять, а волны выли,
как восемьдесят три цепных голодных пса.
И ветер, разодрав на клочья моё горло,
кровь тёплую во тьму брандспойтом разрядил.
Фонтаном изнутри меня тогда попёрло
пространство матюков, тупых обвислых брыл…
Коралловая вязь скрепила клочья кожи,
я снова задышал и стал как Аладдин
красив, невозмутим и джинном растаможен.
Я жду прихода льдин на берегу. Один.
ТЫ И Я
Мы сядем поздней ночью у камина,
почешем друг о дружку интеллекты.
Ты так обворожительно невинна,
а я – обычный нудноватый диалектик.
Решив спонтанно пару уравнений,
мы подведём итоги и балансы.
Ты гений, настоящий яркий гений,
а я – не больше чем банальный папарацци.
Затем сквозь линзы мощных телескопов
мы будем наблюдать огни сверхновых.
Ты вдохновляешь, муза, Каллиопа,
а я – бессильный обуздать тебя филолог.
Ты не уснёшь, когда настанет утро,
а я без сожаления и лести
признаюсь в эту светлую минуту:
«Мы будем счастливы, любимая, лишь вместе».
НОЧНОЙ ПОЛЁТ
Мы живём всё больше как-нибудь,
абы чем, авось да не загнёмся.
Нет чтоб возмутиться и взбрыкнуть,
но в сопротивлении где польза?
Только иногда шальная мысль
бьёт навылет чахлый сон бездумья,
и я представляю: клином птиц
мы летим в ночи густой, безлунной.
Нет земли под нами – холод, тьма.
Неба нет – сокрыто облаками.
Удержаться, не сойти с ума,
не сорваться вниз тяжёлым камнем.
Пустота… И стайка серых птиц
затерялась, сбив ориентиры.
Лишь бы прямо, только бы не вниз –
вдруг там будет бездна вместо мира…
ПЕЧАЛЬНОЕ
Ослепшие звёзды
бездушно буравили небо.
Обрывки копирки –
фрагменты забытых мелодий.
Прорезав борозды
колёсами старого кэба,
лакали из крынки
святые Кирилл и Мефодий.
Их жизнь безыдейна –
тупой голливудский блокбастер.
Аз, буки и веди
глаголить безмерно устали.
Покинув таверну,
отправились в поисках счастья,
но, карты не видя,
в бездонную лужу упали.
В заплыв ушли вместе
с весёлой девчонкой Алисой
да кроликом белым
сквозь землю, к ядру центроподов,
волшебному месту,
где склад неоформленных истин
и чистое небо
как знамя всеобщей свободы.
трилогия «кукольные трагедии»
1. СНАЙПЕР
Буратино был снайпером. Он
острым носом не бил мимо цели.
Романтичной мечтой окрылён,
каждый вечер на кукольной сцене
изгибался, юлил, хохотал,
прыгал так, что трещали суставы,
а презрительный зрительный зал
отвечал лишь фальшивою славой.
Одинокий скуп аплодисмент,
рук восторженных фанов не видно,
но слепил всех прожекторов свет,
когда юная дива Мальвина
появлялась на сцене. Оркестр
барабанной безумною дробью
громыхал так, что город окрест
просыпался от мощного боя.
Буратино устало смотрел
на её грубоватые танцы
и зубами бессильно скрипел,
и мечтал поскорее надраться.
Но на сцену опять выходил,
раздирал скулы горькой улыбкой,
вновь и вновь слыша: «Эй ты, дебил,
убирайся отсюда!» Пот липкий
разъедал акварелины глаз,
и текла в руслах трещинок краска.
Он шептал: «Эта боль не для нас.
Это ж добрая, детская сказка».
Возвращаясь в холодный подвал,
он глядел на картину с камином
и с размаху в неё нос вонзал,
вспоминая кокетку Мальвину.
Бил десятки измученных раз,
падал в изнеможеньи на койку.
Так не знающий промаха ас
оставался на время спокойным.
Завтра – день. Завтра – вечер. Спектакль.
Неизменный аншлаг. Удержаться
надо как-нибудь. Только вот как
в этой свалке собою остаться?!
На клочки порвалось полотно:
в щель видны кирпичи, а не дверца.
Буратино был снайпером, но
у него было слабое сердце…
2. ВОЗРОЖДЕНИЕ
Разломанная игрушка –
арлекин без руки в грязной луже
никому уже больше не нужен,
даже болтливым лягушкам.
Дыры глаз его смотрят в небо,
где сонно плывут самолёты;
ему тоскливо до рвоты,
хочется водки и хлеба.
Подошвы, копыта, подковы
равняют его тело с пылью.
Он хочет стать бабочкой или
бубенцом на шее коровы.
Но рок, чёрный рок арлекина,
разрядившего боезапасы
в пылу карнавального часа,
дозволяет ему стать лишь глиной.
И гнетущее долгое небо,
вертикаль одинокого тракта,
дребезжащий деталями трактор,
хлопья чёрного жёсткого пепла
убивают его поэтапно,
провалили стекляшки в глазницах.
Он может теперь насладиться
только прелестью грязевой ванны.
Может быть, прорастёт он когда-то
толстоствольным раскидистым древом;
изоляция треснет нервов
тех, кто первым увидит гиганта.
После выживут те, что невинны,
остальных смерть секирой покосит.
Глянь, на дереве пёстром, как осень,
вместо листьев висят арлекины…
3. ВЫБОР
Вот Пьеро – горбоносый урод –
в чёрных джинсах и белой рубахе.
Он сидит за кулисами, ждёт,
когда Главный прикажет: «На плаху!»
У него так болит голова
и саднит тростниковая шея;
позабыл своей роли слова,
а играть импровиз не умеет.
Каждый вечер под гогот толпы,
улюлюканье, свист, злые крики
он лишает себя головы
и опять остаётся безликим.
Нервный трагик. Напудрен парик.
До предела нос накокаинен.
Он ослаб, лицом к стенке приник:
ждёт, когда лоб немножко остынет,
успокоится мысли поток,
прояснится на время сознанье…
Он опять возразить им не смог,
слова «нет» Пьеро просто не знает.
Крик: «На выход!» Он встал и пошёл,
раздвигая ладонью кулисы,
и накрытый увидел вдруг стол,
а за ним – молодую актрису.
Подходи же сюда, не робей!
Он послушался, сел рядом с нею
и разлил по стаканам портвейн,
и впервые стал в чём-то уверен.
Вы позволите вальс? А она,
не колеблясь, раз-два-три и снова.
То ли счастлива, то ли пьяна,
и на всё, несомненно, готова.
Мим Пьеро дерзко счастлив, кружит
в нежном танце, про страх позабыл он.
Но вдруг видит: блеснули ножи
на столе. Дежа вю. Уже было.
Он встряхнул головой и моргнул:
наважденье никак не уходит.
Что, дружище, стоит на кону
твоя новая смерть. Так ведь вроде?
И зачем этот грим, эта фальшь?
Этот вечер вновь будет последним.
Снова душу свою ты продашь?
Да, ведь выбор давно уже сделан…
И под рокот довольной толпы
мим Пьеро улыбается людям.
Ничего, что так любите вы,
когда клоунам головы рубят…
Ничего, что спектакль так жесток
и печальна его антреприза.
Есть Пьеро, у него есть злой рок,
автор есть, у него есть капризы.
Да, казнить не помиловать, да.
И о чём же вся эта бодяга?
Просто мне не всегда – иногда
интересно, насколько бумага
в состоянии боль передать,
вам поведать о том, сокровенном,
что сидит глубоко – не достать.
Прочитали вы? Ваш выбор сделан?
И Пьеро – горбоносый урод –
вновь стоит перед вами на сцене.
Он поник головою и ждёт:
как решат его жизнь, как оценят…
ДВЕ СТРЕЛЫ
Этой осенью снова в полёте
две стрелы, что стремятся на волю.
Не поверите – не доживёте…
Солнца вспышками, пеной морскою
зачарованный, мимо заката
Бог шагает, высокий, усталый.
Шаг за шагом – за кратером кратер,
небо сыпется в воду кусками.
Две стрелы – обречённые птицы –
параллельно нельзя лететь вечность…
Им придётся на дне раствориться,
стать сакральной, непознанной речью,
чтоб затем, по прошествии сотен
тысяч лет, что мелькают, как блики,
возродиться в Последнюю Осень
и разрушить сердца двум Великим…
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Чтоб стать прозаиком, я мало испытал.
Попробую побыть хотя б поэтом:
гораздо проще выпасть мне в астрал
и черпать там нетленные куплеты.
Поэты что – драконы, петухи!
И вирши веером торчат из всех карманов.
Их стиль – незаживающие раны
да грозный рык цензуре вопреки.
Поэтам попрощей: строчи, шуруй,
размазывая нервы по тетрадям,
и адресуй свои размеры Надям,
Анжелам, Светам, прочему добру.
Не то писатель – грозно, тяжело
ступающий по Невскому проспекту
в надежде схапать хлипкого субъекта
и вытянуть из сердца всё тепло,
чтобы, зардевшись, начеркать роман,
а можно два – про чувства и про буйства.
Вот это – степень зрелого искусства.
Поэт же нищ, оплёван – ну и пьян!
Ему всё по корню, до префикса ему!
Но тем сильнее он прозаика и чище,
что тем для многотомников не ищет,
а просто пишет,
сам не зная почему.
***
На останках стихов чужих
пишу свои дряблые строки.
Пациент скорее мёртв, чем жив,
близкий всем, отнюдь не далёкий.
И не надо меня лечить,
ставя в оркестре первой скрипкой.
Пациент скорее мёртв, чем жив.
Да, посредственный, нет, не великий.
Стихоизмы свои растранжирив
в пустоту, всё равно не жалко,
пациент скорее мёртв, чем жив.
Слов запас как у нищего – не олигарха.
Но – раскаянье мне нейдёт,
перевесили фальшь да кокетство.
Пациент скорее жив, чем мёртв!
Послушайте, у него даже есть сердце!
Тук-тук, тук-тук, тук-тук.
Слышите этот звук?!
Через аорту
стихов роты
лезут наружу…
Значит, кому-то нужно…
P.R.
Пропиарьте меня да по чёрному:
я от сплетен и слухов отвык.
Чтобы скалился враг: «Поделом ему!» –
а друг плакал, срываясь на крик.
Полно. Хватит!!! Устал параноить я,
волосами и грязью зарос,
и в портрет мой в дешёвом таблоиде
Бог сморкает простуженный нос.
Пропиарьте теперь вы по белому,
чтоб вспорхнула душа из руин.
Только поздно, ведь всё уже сделано:
я теперь не герой – героин.
Я изгой, фоторобот расклеен мой
на металле фонарных столбов,
и летят мои клочья, развеяны
вдоль кварталов чужих городов.
TV
Мне хочется стать телевизором,
присобачить антенну к черепу
и ездить на дом по вызову
являть людям мыльные оперы.
Хочу иметь пульт управления
и программу – точную самую,
клипы вещать в дни рождения,
а по ночам – лишь эротику.
Говорить я хочу и показывать
каналы все без исключения.
Никаких, ё-моё, срывов, казусов –
стопроцентный эфир круглосуточно!
Стать решил я цветным телевизором,
в каждом доме быть гостем желаннейшим:
долгожданным, любимым и признанным –
встречайте ТВ, люди добрыя!
***
Раствори моё тело в студёной воде
и просей плеск ручья через сито.
Я останусь на дне. Я давно захотел
стать невидимым, лёгким, размытым.
Станут веки мои камышом и, шурша,
будут плакать потоком журчащим.
В иле спрячется и рассосётся душа
недоступная, как чёрный ящик.
Посмотри в эту воду. Увидишь тогда
ты лицо, искажённое рябью.
А заметишь: во мраке мерцает звезда –
знай, я здесь, в этом холоде, рядом…
***
Кто-то мечтает летать как Гагарин,
кто-то – издать толстый том со стихами,
кто-то планирует стать бизнесменом
с тачкой, мобилой, бабцой непременно.
Кто-то задумался: стать бы мне Богом,
Богом-то быть это ой как неплохо!
Сколько ты хочешь – столько и можешь,
и никогда не встаёшь с мятой рожей.
Кто-то гроссмейстером быть полагает:
он миттельшпиль и цейтнот изучает;
кто-то планирует стать Леонардо –
свежих идей наплодить миллиарды.
Я ж хочу быть продавцом кока-колы:
и ненапряжно, и очень прикольно.
Париться по чертежам-космолётам
мне, уж простите, совсем неохота.
Ты в униформе торгуешь напитком,
прибыль считаешь, забыв об убытках,
и всю вселенскую скорбь, мира раны
видишь на дне с кока-колой стакана.
***
Накоплена усталость. Я готов
лечь на спину и грезить о прохладе
тенистых парков, влажных валунов
и сока перезревших виноградин.
Настало время вышвырнуть в окно
всё то, что утомляет нас рутиной:
компьютер, факс, бумажное сукно
и очередь безбрежную кретинов.
Да что работа?! Что нам за резон
за годом год горбатиться без смысла
и за сезоном ждать другой сезон,
нахваливая: «Сладко!» – когда кисло?
Так и живём. А хочется – ей-ей! –
безбрежной эйфории и покоя,
расслабиться и стать стократ светлей,
сверкающим, как блик на волнах моря.
Но гордая хандра берёт своё,
и я, как ни стараюсь, всё же парюсь.
Стихи пишу про быт, не про жнивьё,
и хрумкаю зубами чью-то зависть,
и думаю, засев в своём углу,
о том, что было б здорово, ребята,
однажды лечь вальяжно на полу
и зёрна в потолок плевать граната.
Но это лишь мечты, а в данный миг,
никем не успокоенный и вздорный,
я сам себе и трагик, и шутник
рифмую бред на стыке двух сезонов.
Хочу уснуть и чтобы посильней,
поглубже отрубиться, не по-детски,
и так, не просыпаясь, бездну дней
преодолеть и превратиться в нэцкэ.
***
Полоскать бельё в грязной воде,
засучить рукава перед боем…
Я спокоен, спокоен, спокоен
где-то, а поточнее нигде.
Раскатать губы на пол-лица
и по самой по морде да тортом.
Я расплавил часть сердца в ретортах –
легче изображать подлеца.
Перебежками прыг-скок наверх,
вдоль по лесенке сложной, карьерной.
По пути истрепал свои нервы.
Ну и что, ведь умыл разом всех.
Только руки мои так грязны.
Вновь и вновь тру мочалкой и мылом,
репетирую – в зеркале мило
отразились две разом десны.
Я почти что король. Жаль, почти…
Не хватает чего-то во взгляде,
пуст внутри, хоть снаружи громаден.
Ты при встрече со мною учти,
что я стал нынче резким, другим,
накрахмалил лицо, чтоб улыбка
не слезала – чуть больно и дико.
Не растаять бы только – как дым…
***
В меня выстрелил снайпер, когда я пришёл на войну.
Я не понял сарказма и тихо так, запросто помер.
Надо мной билось знамя у ветра шального в плену,
я лежал и горел, растворяясь сознанием в коме.
Я лежал и мечтал о далёкой чудесной стране,
где все юны, бодры и не надо с утра на работу,
а по мне ехал танк, и пехота бежала по мне,
и прицельно палил, метя в сердце, огонь миномёта.
Я не слышал уже эти взрыв и грохот, и визг,
как Болконский Андрей созерцал облака, угасая:
высоко надо мной самолёт чёрной птицей завис,
заалел, рухнул вниз, а за ним была целая стая
то ли злобных ворон, то ль чертей, то ль посланцев богов –
эскадрон разрушающих небо и землю валькирий.
И я понял: пора! И поднялся в кольце из врагов,
и сказал им: «А что, если нам жить попробовать в мире?»…
***
Когда ко мне в окно средь ночи стукнет Зверь
изогнутым, как серп иль полумесяц, когтем,
я выйду в коридор, раскрою настежь дверь
и, разбежавшись, вверх взлечу, как геликоптер.
Зверь будет долго выть, следя во тьме за мной,
бессилием томясь и жаждою полёта.
Его дразня, к земле пикировать стрелой
я буду, трепеща, вплоть до седьмого пота.
Мне нравится азарт, экзотика, кураж.
Пусть Зверь извёлся весь от чувства близкой цели.
Устав, к себе в окно спущусь и «Отче наш»
шепну, чтобы уснуть младенцем в колыбели.
А Зверь откроет дверь и в комнату войдёт,
но спящего меня будить уже не станет.
Он сядет у стола, сигарку сунет в рот
и песню замурчит о море-океане.
***
Ветра бешеный шквал порвал паруса моей шхуны,
я вцепился в штурвал, я совсем не хочу умирать.
Вышел айсберг из тьмы, мой запуган несчастный «Титаник»,
только что с меня взять, только что с меня бедного взять.
Этот ветер ревёт, этот ветер нарушил мой компас.
Где же зюйд, а где вест, я хочу только маленький норд.
Дайте руку, магистр, я хочу посмотреть на ладонь вам.
Где же ваш аксельбант, где же ваш незабвенный аккорд?
Мы плутаем во тьме больше месяца. Стёрлись недели,
мы догрызли давно всех мышей, башмаки и ремни.
Календарь утонул, поломалась последняя спичка,
озаряют наш путь только Эльма Святого огни.
О, «Летучий голландец», о дива «Мария Селеста»,
укажите фарватер погрязшему в водной глуши
или просто бок о бок меня проводите в ту гавань,
где встречаются все, кто на море когда-то грешил…
ПОСТМОДЕРН
1
Раскинулось море широко,
на дне его спят мертвецы,
за ними Небесное Око
следит сквозь прозрачную зыбь.
Когда буря небо не кроет
сурово рокочущей мглой,
они молча плавают кролем
и плещутся в пене морской.
2
Есть мёртвые в русских селеньях
живее других мертвецов.
Им бог, царь и брат – В.И. Ленин,
учитель и друг – Пикассо.
Они, с грациозной осанкой,
шокируют юных девах
игрой в разудалые салки
и в жмурки игрою впотьмах.
3
Нет места милей в этом свете
для полчищ мертвячьих и орд,
чем сквер, где встречается ветер
зюйд-вест с непонятным ост-норд.
Там верха нет, нет там и низа,
там звёзды кипят в тишине.
Туда не достанешь ты визу,
пока не нырнёшь в вечном сне…
ЭТО ЛЕТО
Это лето палит, это лето сжигает меня своим грузом
високосных лучей, я устал и похож на больную медузу.
Но нет тока в сети, и упрямо молчит гроб кондиционера,
мне бы в море скорей – остудить оголённые зноищем нервы.
Белый росчерк окна с перекладиной ровно посередине –
не уйти никуда, но остаться здесь тоже невыносимо.
Что же делать с жарой, с этим адом ниспосланным мне испытаньем?
Я не знаю, не знаю, не знаю, ещё шестьдесят раз не знаю.
Плавлюсь будто свеча, лазер солнца острей с каждым мигом и резче,
на постели распят я и облик утратил уже человечий.
Дайте воздуха мне хоть глоток – посвежее и чуть поморозней,
а не то заору во всю мочь, а не то лопну выцветшей гроздью.
Но за градусом градус термометр лезет всё выше и выше.
Я готов крикнуть «SOS», но уверен: никто не услышит.
До безумья хочу мою милую добрую вздорную осень,
чтобы тело своё к ней в объятья восторженно бросить
и растаять, как снег, раствориться в заветной уютной прохладе,
стать размером поменьше, а то я сейчас стал совсем необъятен.
Дальше жить до зимы с её сыростью, льдом, бездорожьем и ветром,
и мечтать, ну когда ж, наконец, на курорт к нам придёт это лето!…
ЕРШАЛАИМ
Светлый мой, радостный Ершалаим,
дай мне прочесть твой запах,
дай мне услышать твой пряный гимн
из ароматных злаков.
Я утомлён суетой дорог,
ржавчиной, лязгом, пылью.
Дай мне подняться на твой порог,
песню свою сложи мне.
Дай мне, пожалуйста, солнца нить –
ту, что ведёт к истоку.
Дай мне ещё хоть чуть-чуть пожить
только не одиноко…
Я и заплачу, и заплачу –
денег и слёз не жалко…
И припаду головой к ручью,
и обручусь с русалкой…
Светлый мой, радостный Ершалаим,
мне распахни ворота.
Я окунусь в твой журчащий ритм,
я стану Дон Кихотом…
***
А помнишь: небо рухнуло на землю,
и реки полноводно затопили
широкий луг и сад мой возле дома.
Я выпрыгнул в окно и стал пирогой.
В потоке мутном, вздыбленном волною,
я плыл, взмывая, тут же низвергаясь.
И когти молний вспарывали кожу,
что туго обтянула серый борт мой.
То было летом, непреклонным летом,
когда усталость больше, чем вмещаешь,
и хочется стать птицей, лёгкой птицей,
а уж никак не бедной старой лодкой.
Но наводненье кончилось, и суша
сквозь тонны влаги свой хребет явила.
Ты, может быть, забыла, но поверь мне:
мир спасся из безмолвия. Я помню…
***
Этой ночью я снова пишу.
Измождённый бессонницей лютой,
я страдаю от каждой минуты,
а в глазах будто бы по ножу…
Радикально, решительно рву
что написано, комнату мерю
километрами нервов. Тиберий,
приглашаю – съедим же халву.
В одиночестве радости нет:
может, с нами за ужином Морзе
настучит что-нибудь на морозе.
Будет весело: звонкий сонет.
А ещё пусть приходит Мольер:
можно с ним посмеяться на славу.
Но – один я, один!!! Лишь лукаво
Усмехается гад Люцифер.
Нескончаема мутная жуть.
Сна мне, сна!!! Но сдают мои нервы:
изнутри шумно лезут катерны –
этой ночью я снова пишу…
ПОэтизмы
Плесни-ка мне амонтильядо:
я так чудовищно устал
со смертью жить всечасно рядом
и лобызать ее уста.
Я потерял свою смекалку
и маску цвета помидор.
И вместо ворона мне галка
кричит в экстазе «Nevermore».
О, как же это всё немило:
заржавлен жук мой золотой,
и оборзевшая горилла
грозит иль бритвой, иль тюрьмой.
Вот-вот – и маятник отсохнет.
Поэтому спешу хлебнуть
вина, чтоб побыстрее сдохнуть
и свой прервать бесцельный путь.
* * *
Вот опять я штурмую последний за месяц рубеж
с чёрной картой в руке, а на ней ухмыляется джокер.
Я хочу улыбаться, но сил больше нет, хоть ты режь,
растворяюсь, скорбя, в этом сумрачно-алом потоке.
Надо мной шумит лес и кружат стаи бешеных птиц,
все деревья сплелись, между ними не втиснешь и палец,
я устал от всего: от колонок и передовиц,
от того, что в России я свой, в тот же миг – иностранец.
Перекрёстками загнан, в жестоком плену у дорог,
как размётка прерывист и как светофор триединен,
в самой плотной толпе я измучен и так одинок,
и готов заучить «Илиаду» на гордой латыни,
лишь бы не изводить эти буквы, фонемы, слова
на бессмысленный трёп, наполняющий наши сосуды.
Но опять порыв ветра с меня всю гордыню сорвал.
Может, мысли мои хоть чуть-чуть он причешет, остудит?
Надо просто бежать, не дыша и не думая, до
океанских просторов, чтоб рыбой в воде раствориться.
А на стыке времён, замороженных памяти льдом,
стать стихов палачом и поэм равнодушным убийцей.
***
О Боже, хочется стихов!
Стихов не просто так, а вечных,
чтоб поразилось человече
безмерной силе гулких слов.
И я пишу, пишу стихи,
ваяю – дурака валяю…
В поэта-трагика играю,
но немы вы, слепы, глухи.
За буквой буква – Вавилон,
за словом слово – мир бездонный.
И так вот пишут миллионы
за томом том, за томом том.
Я лишь один из их числа,
но не сдаюсь хандре дремучей,
сейчас вот рифму отчубучу,
прибавив йоту мастерства.
Услышал кто? А может нет?
Начхать! Раз варят полукружья
мозгов, то, значит, это нужно
кому-нибудь, и я – поэт…