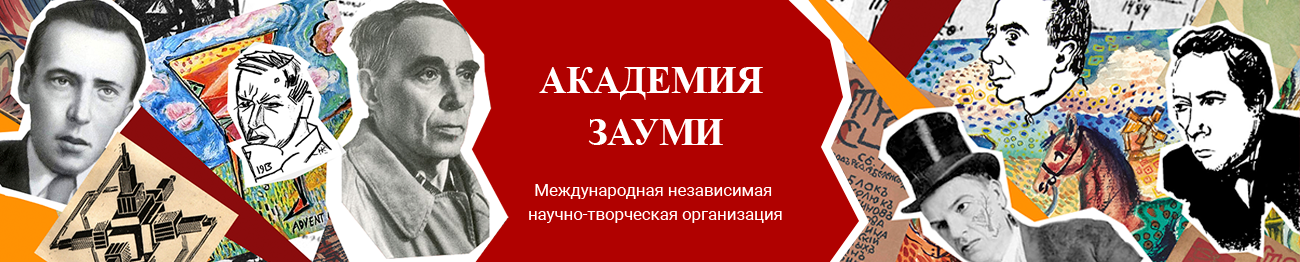Данила Давыдов. Тот, кому известны дороги
Книжное обозрение. – 2003. – 13 октября (№ 42). – с. 5.
Данила Давыдов
ТОТ, КОМУ ИЗВЕСТНЫ ДОРОГИ
Паунд Э.
Стихотворения и избранные Cantos / Пер. с англ.; Сост. И предисл. Я. Пробштейна.
СПб.: Владимир Даль, 2003. – 887 с. 2000 экз.
Огромный том ранних стихотворений Эзры Паунда, кажется, первая часть предполагаемого двухтомника; пишу «кажется», поскольку, по странной прихоти, издатели не указали этого ни на обложке, ни в выходных данных. Указание на предполагаемый второй том обнаруживаются только в предисловии да в комментариях; впрочем, догадаться можно и по содержанию: в книге помещены стихи, написанные до 1917 года, так что более поздние тексты и фрагменты «Кантос» остаются на будущее.
Впрочем, этот дурацкий ляп носит сугубо технический характер. Столь представительное собрание одного из крупнейших поэтов минувшего столетия – не просто книжное событие, а, быть может, возможность открытия нового пути для русского стихосложения, если, конечно, современные отечественные поэты удосужатся обратить внимание на этот том.
Паунда знают ведь у нас больше понаслышке, скорее в качестве персонажа, нежели сочинителя: имажизм, вортекс, профашистские радиоречи в тылу Муссолини, американская тюремная клетка, сумасшедший дом, элиотовское посвящение «Мастеру выше, чем я», могила в Венеции. Единственный сборничек Паунда на русском (1992) давно стал библиографической редкостью. Уже поэтому первый том предполагаемого двухтомника должен стать интеллектуальным бестселлером (если подобное вообще может случиться с поэтической книгой).
Помимо полноты (представлены чуть ли не все ранние стихотворения), нынешнее издание важно своей двуязычностью (так Паунд издается у нас впервые): перевод корректируется оригиналом, что, как бы ни старался переводчик, необходимо.
«Переводчик» – это, в данном случае, синекдоха. На самом деле в первом томе помешены паундовские стихи в переложении двадцати авторов. Основной переводческий груз взвалил на себя Ян Пробштейн. Очевидно, такой объем работы (Пробштейн, ко всему, и составил книгу, и написал к ней пространное предисловие – информативное, тонкое, но несколько угрюмое) не мог не сказаться на качестве. И действительно, увы, далеко не все его решения представляются убедительными. То же можно сказать и о В.Б. Микушевиче, что, при его общепризнанной репутации, несколько удивительно. Впрочем, проблема перевода столь непростых авторов, как Паунд, не может иметь однозначных решений, и я ни в коем случае не подвергаю сомнению право переводчика на интерпретацию; да и претензии касаются, повторюсь, лишь некоторой части текстов.
Особо следует сказать о переводах Седаковой, столь памятных по предыдущим публикациям, и тогда еще представлявшихся почти совершенными. Для нового издания Ольга Александровна подготовила новые версии давно заученных наизусть паундовских стихотворений – и улучшила то, что, казалось бы, улучшать уже некуда. Вот, к примеру, знаменитый текст «De Ægypto». В версии 1992 г. первые две строчки звучат: «Я, истинно я – тот, кто знает дороги / В небесах, и ветер, следственно, – мое тело». В новом варианте Седакова, с помощью хирургических методов, взламывает слишком гладкий стих, приближая его к «библейскому» ритму оригинала: «Я, воистину я, – тот, кому известны дороги / В небесах, и ветер, соответственно, – мое тело». Новая версия звучит более тяжеловесно, но она адекватнее оригиналу; из ритма произрастает семантика стихотворения.
Несмотря на спорность некоторых переводов, русский Паунд теперь, кажется, существует. Что будет дальше? Будет ли он воспринят исключительно как поэт (ну, и эстетик, литературный теоретик), вне всей его противоречивой целостности? «Политик, идеолог и экономист Паунд не состоялся», Щ пишет в финале предисловия Пробштейн. Да, не состоялся для мира, но, быть может, состоялся внутри себя, и, отрекаясь от былых убеждений, пусть и бредовых, отрекся и от себя самого? Не исключено, что русская поэзия, с присущим ей невротическим самокопанием, возьмет на вооружение именно этот паундовский парадокс, а не чистый звук его канцон и секстин.