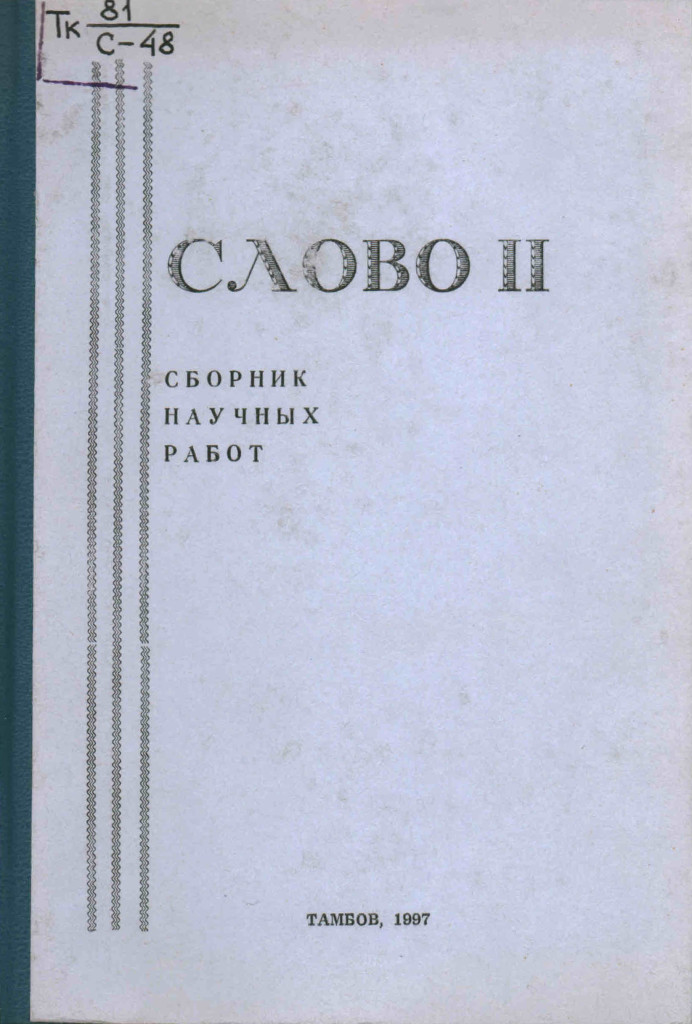Слово 1997
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
I. Статьи
В.Г. Руделев (Тамбов). Слово в словаре
А.Л. Шарандин, Ю.Н. Денисов. (Тамбов). Лексико-семантическая классификация русского глагола в свете постулата о лексическом значении слова
С.Е. Бирюков (Тамбов). Прозвученное слово Алексея Крученых
Акифуми Такеда (Токио). О прелести Хайку к интерпретации стихотворения Басе «Старый пруд»
С.С. Бирюкова, С.Е. Бирюков (Тамбов) Тайный авангардизм Михаила Кузмина (Музыкально-поэтический аспект)
А.В. Гик (Москва). Слово «память» в поэтике Михаила Кузмина
Г. Ермошина (Самара). Мир абсурда и мир странности; проза Даниила Хармса и Владимира Казакова
В.Ф. Шифрин (Санкт-Петербург). На окраинах дискурса (тезисы к экологии несущественного)
К. Грабовска (Польша). Хармса и Бялошевского роман с конкретным
Е.Ю. Васянина (Москва). О русской речи эмигрантов в США
Ю.Э. Михеев (Тамбов). Временное слово в контексте драмы А.П. Чехова «Вишневый сад»
Т.А. Лисицына (Новгород). Облик «изящных искусств» в символике русского слова
А.В. Бубнов (Курск). Экология палиндрома. Контуры исследования
Б.3. Винокуров (Тамбов). Добро и зло в трагедии о Фаусте
М.Н. Макеева, Л.П. Пиленко (Тамбов) Окказиональный символ как смыслообразующая единица текстопостроения
Ю.С. Долгов (Могилев). Слово и валентностная грамматика
И.В. Поповичева (Тамбов). Многозначность лексем «бабушка», «бабка» в тамбовских говорах
С.В. Пискунова (Тамбов). Поэтическая семантика слова (Б. Пастернак «Близнецы»)
А.С. Щербак (Тамбов). Особенности текста проклятий в тамбовских говорах
Н.В. Сафонова (Тамбов). Лексический бум последнего десятилетия (1986–1996 гг)
В.М. Швецова (Тамбов). Источники и пути лексического расширения русского языка
Г.В. Панкина (Тамбов). Категория акцентной выделенности в контексте актуального членения
II. Предварительные материалы и доклады
М.Л. Таривердиева (Москва). Язык и общество: их взаимодействие и взаимовлияние
С.Ю. Дубровина (Тамбов). Создание механизма описании номинативных групп лексики
В.И. Собинникова (Воронеж). Отражение русского национального языка как общенародного в произведениях А. И. Эртеля
Л.П. Батырева (Шуя). К вопросу о влиянии литературного языка на диалект (на материале лексики говоров Ивановской области)
Т.П. Зюрина (Смоленск). Об употреблении заимствованных слов
Л.И. Зубкова, Ю. Т. Листрова-Правда (Воронеж). Англоязычные заимствования в современном русском языке
Т.В. Кортава (Москва). Роль приказного языка XVII в. в процессе формирования русского национального языка
В.А. Власова (Жамбыл). Дифференторы морфонологических единиц и изучение фигур плана выражения русского языка в тюркоязычной аудитории
В.Б. Гольдберг (Тамбов). Моделирование как инструмент систематизации неологизмов (на примере микрополя «Лексика школы»)
Л.Ф. Егорова (Тамбов). Пространственно-временная организация английского вокализма
Л.А. Сергиевская (Рязань). Экология синтаксиса современного русского языка
О.М. Киянова (Москва). Об общенациональных тенденциях н региональной специфике развития русского литературного языка в XVII веке
О.А. Дриняева (Тамбов). Развитие словарных значений у детей младшего школьного возраста
А.В. Щербакова (Тамбов). О скрытых английских влияниях на лексику современного немецкого языка
Д.В. Коновалов, Л.В. Самокрутова (Тамбов). К вопросу о подготовке компьютерных технологий в области преподавания русского языка как иностранного
Н.Г. Дяловская (Тирасполь). К проблеме аналитических образований в русском языке
М.А. Грачев (Нижний Новгород). Арготизмы: запретить или разрешить?
Е.С. Лебедева (Тамбов). Владимир Высоцкий: язык русского поэта
Е.Б. Патракеева (Тамбов). Специальные и научно-технические термины в поэзии А. Вознесенского
М.К. Поликарпова (Тамбов). Проблемы культуры речи при изучении синонимов в школе
В.В. Павлова (Тамбов). Конструкции с предлогом «наподобие» в простом предложении
В.Г. Руделев, Н.Г. Серебренникова (Тамбов). Механизм эпитета
Н.Н. Комарова (Тамбов). Семантические группы наречия в современном русском языке
Е.В. Грудинина (Тамбов). «Ы» – «И»
И.М. Попова (Тамбов). Гоголевская тема «Быта и Бытия» в раннем творчестве Е.И. Замятина
Л.С. Моисеева (Тамбов). К вопросу о видовой парности диалектных глаголов
М.Ю. Гавин (Тамбов). Контактность слова и романсовость поэзии Алексея Апухтина
В.В. Каменская (Тамбов). К способам описания сравнения в русской лингвистике
Л.А. Спирина (Тамбов). Логическая форма хиазма
М.И. Иванова, Е.Б. Патракеева (Тамбов). О способах выражения обстоятельственных значений в поэзии Б.Л. Пастернака
О.В. Чухонастова. Размышление фиолога о дефисном написании слов в русском языке
В.Г. РУДЕЛЕВ
(Тамбов)
СЛОВО В СЛОВАРЕ
В настоящей статье излагается нестандартная концепция слова, и словаря, разработанная в рамках Тамбовской лингвистической школы (1). Статья продолжает собой серию обобщающих исследований по проблемам языкознания (и, в частности, русистики), отраженным в научных работах лингвистов, так или иначе причастных к Тамбовской школе (2). Полагаем возможным опубликовать в сборнике «Слово II» только первую часть нашего исследования о слове (она посвящена в основном проблеме выражения, формы этой лингвистической и языковой единицы); вторая часть работы, посвященная содержанию слова, будет опубликовала в сборнике «Слово III» – после того, как некоторые положения нашей концепции будут обсуждены на Международном симпозиуме в мае 1997 года.
1. Что такое слово?
Концепция слова, разработанная в рамках упомянутой школы, касается в первую очередь самого слова, которое рассматривается, в отличие от общепринятых решений, не как «основная структурно-семантическая единица языка, служащая для именования предметов и их свойств, явлений, отношений действительности…» (3), а просто как единица языка, т.е. единственная его единица; все остальное, что существует в языке, только обслуживает слово, создает его различительные признаки, или обслуживает речевые произведения, наиболее простым из которых является предложение (4). Одна из наиболее трудных соссюровских проблем – о языке и речи – решается, таким образом, довольно элементарно: будучи механизмом порождения речи, который строится па системе знаков, язык ничего, кроме этих знаков, и не содержит (5); единственное, что полностью соответствует представлению знака, является слово (язык и есть система слов = лексем); речи соответствуют единицы принципиального иного, более творческого характера–композиции, т.е. предложения и более сложные структуры аналогичного плана (6).
Само собой разумеется, что прежде, чем прийти к такому простому решению слова и предложения (= языка и речи), тамбовские языковеды долгое время не могли преодолеть известных постулатов о языке как системе эмических единиц («фонема», «морфема», «лексема» и т.п.) и о речи как стихии, где эти единицы имеют варианты («аллофоны», «алломорфы», «аллолексы» и т.п.) (7). Непродуктивность такого подхода, однако, еще в 60-е годы была доказана С.К. Шаумяном (8), который счел возможным относить к языку и абстрактные и конкретные единицы (это, правда, касалось только фонем). В то же время представление языка и речи, которое находим в работах тамбовских ученых сегодня, лучше всего подтверждает мысль Ф. де Соссюра об индивидуальности речи и социальности языка: композиции всегда предполагают некоторый выбор языковых средств и отражают индивидуальные особенности построения речи; слово же даже в самых тонких, поэтических, построениях не теряет социальных черт и не превращается в единицу, не доступную пониманию (9).
Важно отметить и то, что слово в концепции тамбовских ученых не является чем-либо заданным (наряду с предложением, т.е. композицией). Достаточно, оказывается, лишь одного заданного конструкта – предложения, хотя и он, этот заданный конструкт, выщодится , из конструкта «речь» (предложение – минимальная речевая композиции, минимальное речевое произведение, имеющее жанровую отмеченность, но выступающее также и как элемент более сложных речевых композиций) (10) . Что касается с лова, то этот языковой (!) конструкт выводится из речевого конструкта «предложение»: слово – это композиция, предложение, выведенное из речи в язык и особым образом преобразованное, скомпрессированное, обработанное ради того, чтобы не занимать большого объема в языке; слово – своего рода знак, память о речевом тексте, который сопровождает, однако,
слово как его толкование:
«ВОДА ж. стихийная жидкость, ниспадающая в виде дождя и снега, образующая на земле родники, ручьи, реки и озера, а в смеси с солями, моря. Кипящая вода обращается в пар, мерзлая образует лед; испарения водные (влага, мокрота, сырость) наполняют мироколицу, в виде облаков, тумана, дождя, снега и пр…)» (11).
Или:
«ВОДА, –ы… Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая в чистом виде химическое соединение водорода и кислорода…» (12) .
Толкование слова – это и есть тот текст„ который предшествует, а затем и сопровождает слово в человеческой языковой памяти и в словаре, отражающем эту; память. При этом может быть так, что в скомпрессированном варианте текста, т.е. в самом слове (языковой единице!) следа речевого предшествия не остается. Так, в слове «вода» нет ничего от понятия «жидкость», от признака «бесцветный» и всего прочего, что мы находим в дефинициях Даля и Ожегова. Судя по всему, и этимологические штудии не спасают. Например, в лучшем этимологическом словаре русского языка М. Фасмера (13) мы, окунувшись в индоевропейскую стихию, обнаруживаем и в греческом и во фригийском и во всех иных индоевропейских языках соответствия русскому слову «вода», уже утратившие связи с иными лексемами (по Гумбольдту и Потебне, потерявшие внутреннюю форму).
Иные слова, напротив, сохраняют следы такого предшествия. Слово «учитель», например, содержит своего рода «проектор» …ТЕЛЬ, который отражает понятие (=слово) «человек» («учитель – это человек, который чему-либо учит, обучает…»); слово «учитель» имеет своего рода «слайд», отражающий понятие (= слово) «учить»; этот «слайд» отличает слово «учитель» от слов с тем же самым «проектором»: «избиратель», «надзиратель», «шпагоглотатель» и др. (14) .
Конечно, описанный подход к интерпрётации морфемной структуры слова (15) ничего общего не имеет с трактовкой морфемы как минимальной единицы языка (16) и вообще единицы языка: слово не состоит из морфем, оно лишь обнаруживает морфемное строение, отражающее текст, предшествующий данному слову.
2. Что можно отнести к слову и чего к слову отнести нельзя?
Предшествующее наше рассуждение (оно является результатом многолетних раздумий и штудий) приводит к выводу о примате предложения над словом и примате речи над языком! Можно, таким образом, представить предложения (элементарные тексты), не имеющие словесных, эквивалентов (17) , как можно представить и те элементы словесных предложений, которые не являются словами (18). Если любому слову предшествует (и сопутствует!) в качестве толкования речевая композиция, то к числу слов нельзя отнести различные конструктивные детали предложения (союзы, частицы, «союзные слова» и т.п.), поскольку данные элементы превратить в тексты невозможно (19). Определение предложения как сочетания слов или как отдельное слово, обладающее определенным признаком (20), бессмысленно: предложение не создается из слов; даже если оно и включает в себя слова, оно существует как конструкция, которая содержится в языковой памяти наряду с системой слов (лексем).
Ср. у Б. Пастернака:
«И когда твой блуждающий ангел
Испытает причалов напор,
Журавлями налажен, триангль
Отзвенит за тревогою хорд».
Устраняя из этой строфы (предложения) слова, мы не можем не оставить в нем того, что принадлежит предложению – независимо от слов:
И когда… … (во второй части приводимого предложения, впрочем, может быть вторая часть синтаксической конструкции «тогда»:
И когда…, тогда…).
Бессмысленно решать вопрос, сколько слов в конструкции «когда…, тогда…»: в ней нет ни одного слова. В логике
давно уже осмыслено подобное явление, и знак функции (в данном случае импликации) не трактуется как особое высказывание (21). Представляется возможным видеть в символической, например, логике отражение языковых построений; но в таком случае и сами языковые построения (в их моделях) не должны отставать, отличаться от логических, быть архаичнее и беспомощнее последних. Но эта значит лишь одно: элементы синтаксических конструкций, каркасы высказываний, не могут представляться как слова или группы слов, они не могут также включаться в словарь (22)
Особую трудность представляют так называемые «союзные слова», которые образуют не предложения, а их составные части (члены предложения). Ср.:
«Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок…»
(«Та…, в которой или где…, была…»).
Конструкция «та…, в которой…» аналогична уже рассмотренной синтаксической конструкции типа импликации (23), но она оформляет только тематическое подлежащее (24), а не все предложение; слов в этой конструкции нет также,
хотя они предполагаются как наполнители.
Элементы синтаксических конструкций – только один из видов так называемых «служебных частей речи» (или «частиц речи») (25), не имеющих ничего общего со словами (26) . Второй группой слов-самозванцев оказываются элементы словоформ – в русском языке это в основном предлоги.
Конечно, чисто формальный (кибернетический) подход к слову (определение слова как суммы букв от пробела до пробела) (27), заставляет предлог считать самостоятельным словом-знаком. Но ведь в падежной парадигме:
«Судьба, судьбы, судьбе,
Судьбою, о судьбе…»
(Б. Окуджава) –
вариант слова «судьба», представленный надёжной формой с предлогом, – такой же элемент парадигмы; как и все остальные: «судьба», «судьбы», «судьбе», «судьбою»… Будучи элементом словоформы, которая является падежным вариантом слова «судьба», предлог «о» оказывается и элементом слова (в одной из его форм, в одном из его вариантов). Можно ли, имея такой факт, считать предлог словом? Думается, нельзя. В исследованиях тамбовских языковедов это давно уже принято к сведению (28), как принято к сведению и то, что словом нельзя считать междометное предложение, даже состоящее из одного междометия.
Выражение «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», не содержащее ни одного реального слова, столь же не словесно, сколь несловесно и выражение типа «Ах!» или «Ахти!» («Ахти, ребята, вор!» – И.А. Крылов). Как следует из нашего рассуждения, Тамбовская лингвистическая школа предпочитает (возможно, здесь более уместно выражение «вынуждена предпочитать») освобождение системы слов (лексем) от всего, что лишь внешне напоминает слова: от союзов и частиц, от предлогов, от междометий, в то время как иные лингвистические школы стремятся всю линию букв, соотносимую с предложениями считать цепью слов; в эту цепь включаются так называемые «модальные слова» и «эмоциональные лексемы» и т.д. – списки частей речи доводят до нескольких десятков (29). Мы считаем подобный механический подход непродуктивным, имеющим незначительную объяснительную силу, противоречивым и неэкономным (30). Сохраняя звания слов только за полнозначными словами и лишая такого звания «слова» служебные, а также междометные фразы, мы тем самым значительно упрощаем словарь, усиливая и расширяя грамматику. Подобных расширений грамматики предполагается еще немало.
3. Границы слова в тексте.
Идея двусловных и многословных слов.
(Аналитизм и подобные ему явления).
Не отрицая формальный метод обнаружения и описания слов, мы не можем принять его крайние, примитивные разновидности, которые обнаружились при обращении лингвистов к теории машинного перевода (31). ,Формалистическая болезнь не прошла и мимо тамбовских исследователей слова, в 70-е годы пришедших к отрицанию аналитических форм (32). Эта слабость была, конечно, преодолена, но не сразу и не просто (33). Между тем, признавая предлоги элементами словоформ и лишая их словесной автономии, нетрудно это сделать и в отношении таких сочетаний, как «буду читать», «была объявлена», «начну собираться» и под. Если «читаю», «читал» объявляются формами одного и того же слова «читать», то естественно считать формой того же слова и «буду читать».*
Относительно так называемых «кратких причастий» типа «съедена», «прочитана», «расколота» и т.п. еще в 1952 году Академической грамматикой (34) был сделан интересный, хотя и не очень категоричный, вывод: это уже не причастные формы; в современном русском языке они – обыкновенные формы видового и залогового содержания. Гоголевская фраза, «сия дыня съедена…» вырвана из парадигмы:
___________
* Перед нами три временных формы глагола считать», при этом вовсе не обязательно считать аналитической формой только «буду читать»; в прошлом аналитической была и форма «читал» («есмь читалъ»); может быть, она так и осталась аналитической, превратив ранее наблюдаемому связку в нулевую, не наблюдаемую?
Решать, однако, эту проблему – лишнее дело: в конце концов важно отметить не аналитическое слово, а то, что это именно слово. Историческое изменение (в данном случае устранение из речи избыточной связки) только доказывает факт однословности выражения «есмь читалъ», в котором, конечно, при желании и формалистическом упорстве можно видеть два слова. Но два слова в одно не превращаются: в одно слово может превратиться только одно слово.
я ем сига дыню (действ, залог, несов. вида),
«я съел сига дыню (действ, залог сов, вида).
Если включить в число глагольных форм еще и сочетания инфинитива с модальными глаголами и иными словами, имеющими модальное значение («люблю читать», «должен защищать», «рад представиться», «хочу поехать» и т.д.), окажется совершенно .непродуктивным термин «составное сказуемое» или «сложное сказуемое»: таковых не окажется вовсе, и сказуемые, выраженные аналитическими формами глагола, надо будет признать простыми (35) . Однако именно для этих случаев были введены, как нам кажется, подобные термины (36).
Рассуждения об аналитических (двусловных) словак (или формах) были затеяны в настоящей статье не ради конструкций типа «буду работать» или «была съедена»: эти формы осмыслены подобным образом, хотя и не до конца, уже давно (37). Речь пойдет об иных языковых материях, к которым надо подходить через понятие словосочетание. Само это понятие «словосочетание» запутано, доведено до абсурда. Если оставить в неприкосновенности теорию членов предложения (в том числе – и второстепенных), то места для словосочетания в теории синтаксиса, не останется вообще (38); если же открыть дорогу словосочетанию и устранить учение о членах предложения, то синтаксис потеряет функциональную направленность и семантическое напряжение; между тем, именно теория членов предложения достигла в последнее время необыкновенного успеха, дав лучшее, что только можно было предположить, – теорию актуального членения (39).
В работах тамбовских языковедов была найдена некая компромиссная модель решения, которая вполне согласуется с трансформационной теорией Н. Хомского (40). Суть указанной компромиссной теории заключается в том, что словосочетанием объявляется не всякое сочетание слов (членов предложения) в простом высказывании, а только таких, которые можно развернуть в самостоятельные предложения и представить как предложения (41). Ср.: «На столе лежали красные розы»: в этом предложении контаминируют два самостоятельных высказывания: 1) «На столе лежали розы» и 2) «Эти розы были красные». Словосочетание «красные розы» способно трансформироваться в предложение (по Хомскому, здесь только и начинается трансформация), поэтому оно и словосочетание, как словосочетание – структура типа «движение поезда», «доблесть солдата», «два стакана молока» и под. (42).
С другой стороны, такие структуры, как «железная дорога» и «Красная армия», над которыми голову ломал еще А.А. Шахматов, не преобразуiотся в предложения. Это и есть двусловные слова (43), которые в словарях надо подавать не в статьях «дорога» и «армия», а в совершенно самостоятельных разделах, не жалея словарного пространства.
О глагольных словосочетаниях в тамбовских кругах стали говорить только недавно (44), и, если признак способности трансформироваться, в предложение применять и в этих случаях, то под глагольное словосочетание подойдут только структуры типа «ловить рыбу», «закрывать окно» и «любить гречневую кашу», где отмечаются объекты в вин. падеже, способные становиться подлежащими с объектным значением: «Рыба здесь ловится», «Окно было закрыто», «Гречневая каша мной не любима». В предложении «Старик ловил неводом рыбу» (А. Пушкин) – только одно словосочетание: «ловил рыбу»; «ловил неводом» и «старик ловил» не словосочетания, а сочетания членов предложения (вот так удивительно интересно накладываются друг на друга главные и второстепенные члены предложения и сочетания слов – внутри членов предложения; н данном случае внутри сказуемого, и без того распространенного обстоятельством или дополнением «неводом»).
Но – странная особенность языка! В пушкинском примере имеется в виду вовсе не наблюдаемое действие, когда «старик» «ловил рыбу» и «поймал золотую рыбку», а сам факт его причастности к рыбной ловле. Старик ловил рыбу даже тогда, когда он ее не ловил, когда был шторм, когда он спал в ветхой землянке. Старик был рыбак, и это его качество (профессия что ли?) выражено уже и не словосочетанием, а словом «ловить рыбу», которое не преобразуется в предложение «Рыба здесь ловится».
Еще об одном виде двусловных слов скажем, забегая немного вперед. Речь идет о таких структурах, как «давать обещание», «выражать недоумение», «ставить вопрос», «находиться на отдыхе» («быть на заслуженном отдыхе») и т.д. Несколько позже будет рассказано о мимикрических субстантивных формах типа «обещание» (от «обещать»), «выражение» (от «выражать»), «отдых» (от «отдыхать») и т.д. Обычно такие слова (?) подаются в словарях как субстантивы от глаголов, а сами глаголы определяются через эти субстантивы (?): «обещать» давать обещание и т. д. Подобный круговорот семантики наивен: «давать обещание» в «обещать» – одно и то же, это только стилистические варианты слово «обещать»* (45).
При этом, как ни странно, «обещание» является производной (мимикрической) формой одновременно и от «обещать» и от «давать обещание». Такие парадоксы в исследованиях по русскому языку до сих пор не отмечались.
Подводя итоги, этой части работы, мы подчеркиваем мысль о невозможности считать слонами и, следовательно, вносить в словари:
1) союзы,
2) предлоги,
3) различного рода частицы,
4) междометия,
5) связку и иные «вылинявшие» глаголы.
В словарных статьях нуждаются двусловные слова типа «железная дорога», «ловить рыбу» и под. Как стилистические дублеты слов типа «обещать», «побеждать», «спрашивать» и под. следует рассматривать даже и не двусловные (!) слова типа «давать обещание», «одерживать победу», «ставить вопрос» и под.
4. Мимикрия
В этой части работы мы постараемся осветить вопрос о формах слова, которые обычно подаются в словарях как отдельные лексемы. Речь не идет, к примеру, о формах множественного числа существительных, которые еще в рамках формальной школы Фортунатова казались самостоятельными словами (46), и не об уменьшительных формах существительных, насчет которых так и мог сделать решительных выводов Л.В. Щерба (47); мы оставляем также без рассмотрения вопрос о глагольной парадигме времени и наклонения и всего прочего, вчера еще не ясный нам самим (48);
_______________
*В свое время, выступая перед работниками тамбовских газет, я обратил внимание на то, что выражение «допускает некоторое недовыполнение плана» равно слову «не работает как надо». Со мной согласились, но сказали, что критикуемый много газетный штамп полезен тем, что благодаря ему цензура пропускает острые материалы, которые в иных случаях были бы отвергнуты: нельзя же говорить, что какай-то завод не работает. Нет, он работает, но допускает…
Теперь, оказывается, наступила пора прямых выражений.
речь пойдет о мимикрических формах глагола, прилагательного и имени, мысль о которых у тамбовских языковедов за
теплилась не раньше конца 70-х годов (49).
Что такое мимикрия и почему она существует в языке? Мимикрические формы возникают в результате нейтрализации частей речи в слабых позициях – это архилексемы, которые по форме представляют одно, а по значению – совершенно иное. Впервые мимикрические формы были обнаружены у глагола и прилагательного (качественно-предикативного слова) (50) – это были субстантивные формы типа «бег» и «доблесть» (51), затем субстантивные формы были найдены у числительных («семерка») (52) и только в 1990 году – у наречий («зима», «лето» и «площадь», «город») (53). Н.В. Челюбеева в 1988 году описала все мимикрические формы прилагательного, в том числе и наречные (54) («тихо», «по-русски», «далеко»); ею же был закрыт вопрос о категории состояния – путем констанции безлично-предикативных форм («в доме было тихо»). Итогом рассуждения о мимикрии стала работа, В.Г. Руделева 1996 года (55), но самым интересным все же было открытие мимикрии наречия («зимой» – собственная форма наречия, «зима» – его мимикрическая, субстантивная форма).
Мимикрия – прогрессивное, продуктивное явление языка, служащее сокращению пространства во имя увеличения скорости передачи информации (56). В качестве примера такого сокращения языкового информационного пространства и образования острой экспрессии приводится стихотворение А. Фета «Шепот. Робкое дыханье…»
Открытие мимикрии оказалось важным для лексикографии, оно позволило относить в одну глагольную статью не только причастия и деепричастия (адъективные и наречные формы глагола), но и субстантивные его формы, в словарях подающиеся не только как самостоятельные лексемы, но и как некие базы для образования глагольных лексем (ср. определение «обещать» как «давать обещание» и т.п.). По сути дела были подорваны основания для рассуждений об абстрактной субстантивной лексике (57): никаких абстракций и подобного в формах типа «отход» («отходить» ), «обещание» («обещать») не оказалось, как не оказалось у этик форм и предметных значений, своего рода «опредмеченного действия» (58).
Очень важным сало помещение в одну словарную статью таких форм качественно-предикативного слова, как «тихо» («сказал тихо» и «в доме было тихо») и «тишина» (субстантивная форма прилагательного «тихий», «тих»), а с другой стороны – объявление субстантивной мимикрией таких форм, как «золотой», «деревянный», «отцов», «лисий» и т.п. Но вот уж мимикрия форм «зима», «лето», «круг», «шар», «стрёла», «площадь», представляющих начала парадигм, в которых подлинно наречными оказываются формы «зимой», «летом», «кругом», «шаром», «стрелой», «на площади», для составителей русских словарей окажется потрясающим парадоксом.
Итог рассуждения о мимикрических формах можно представить в виде следующей таблицы:
Мимикрическяе формы:
Г П Ч Н С
Г + – – – –
П + + + + +
Ч – – + – –
Н + + + + –
С + + + + +
Г – глагол,
П – прилагательное,
Ч – числительное,
Н – наречие,
С – существительное.
Первая строка, таблицы демонстрирует только отрицательные значения, если не считать первого столбца (здесь
знак + обведен кружком: это не мимикрическая форма, это глагол, смешавшийся с самим собой, т.е. это – просто глагол); никакие части речи с глаголом не смешиваются, глагольных форм нет ни у одной части речи, кроме самого глагола.
Вторая строка дает всюду положительные значения (пересечение П : П помечено плюсом, но обведено кружком – это символ собственно адъективных форм); но и все иные части речи имеют адъективные формы (адъективная форма глагола – причастие, «идущий»; адъективная форма числительного – порядковое числительное: «первый»; адъективная форма наречия – «зимний», существительного – «золотой» (59).
Третья строка полностью отрицательная, кроме пересечения Ч : Ч с числительным ни одна часть речи не смешивается.
Четвертая строка: наречная форма глагола – деепричастие («идя»), прилагательного – «тихо», числитёльного «два раза» (60), арх. «дважды»; существительное не смешивается с наречием, но раздваивается в семантике: «дом»1 ‘строение’, ‘здание’ («флаг над домом») _– «дом»2 ‘интерьер’, ‘квартира’ («в доме тепло»); ср. еще «на шкафе» и «на шкафу», «на дубе»1 и «на дубу»2; сюда же, видимо, надо отнести: «на нефти’»2, «на газу’» 2 – как наречные падежи – и следовательно, существует раздвоение слов «газ» и «нефть» на два – субстантивное и наречное (61).
Пятая строка: субстантивная форма глагола («ходьба»), прилагательного («доблесть»), числительного («тройка»), наречия («зима»).
Важные открытия были сделаны тамбовскими учеными в области дейктических слов (местоимений) и в области слов-символов («собственных сов»). Как местоимения, так и собственные слова необходимо подавать в словаре (62).
Термин «местоимение» довольно устарел: дейктические слова заменяют собой не только имена, но и наречия, которые никто никогда к именам не относил (63); только глаголы не имеют дейктических замен, хотя и на этот счет есть иные соображения. Местоимение – это не часть речи, а совокупность частей речи (существительное, числительное, прилагательное и наречие); само собой разумеется, что в местоимениях, как и в обычных частях речи, есть мимикрические формы (ср. «я» и «мой», «ты» и «твой»; «здесь» и «здешний» и т.д.).
Собственные слова разделяются на имена (названия-символы людей, животных) и на наречия (названия городов, рек, стран и т.п.). Собственные адъективы («парижский», «английский», «сибирский» и под.) – суть только адъективные формы соответствующих имен и наречий.
Дело осложняется тем, что многие адъективные формы собственных слов превращаются языком в качественные прилагательные (качественно-предикативные слова); такие процессы происходят и с иными адъективными формами: «русский» – не просто адъективная форма собственного слова
«Русь», это еще и качественное прилагательное (не собственное!) с определенным отражением качества, отсюда и
«качественное наречие» «по-русски» (в действительности это только наречная форма качественно-предикативного слова);
ср. еще «золотой» ‘из золота’ и «золотой»2 ‘драгоценный’, ‘в высшей степени положительный`, ‘хороший’ (64)2.
Подводя итоги этой части работы, смеем утверждать, что
в словарь при подаче в нем русских лексем нельзя, кроме
междометий, предлогов, союзов и частиц, вводить отдельными статьями:
1) мимикрические формы глагола. (причастия, деепричастия, субстантивные формы типа «уход», «отправление»)
2) мимикрические формы прилагательного (так называемые «качественные наречия» и слова «категории состояния»): «тихо», «по-русски» и т.д., а также субстантивные формы этой части речи («доблесть», «честь», «красота»),
3) мимикрические формы наречий, существительных, числительных.
В словарь необходимо ввести собственные слова русского языка, (за вычетом их мимикрических форм). Может быть, это будет отдельный том толкового словаря, но это непременно должно быть. Это должно быть еще и потому, что наблюдается нейтрализация апеллятивов и собственных слов (65).
С.Е. БИРЮКОВ
(Тамбов)
ПРОЗВУЧЕННОЕ СЛОВО АЛЕКСЕЯ КРУЧЕНЫХ
Вираж Алексея Крученых в русской поэзии не удалось повторить никому. Его «пятистишие», как он сам именовал свое
Дыр бул щы л
убещур скум
вы со бу р л эз
навсегда вошло в историю русского искусства. Елена Гуро, умевшая слышать «нежную суть» других, писала, Крученых: «У Вас… в пространствах меж штрихами готова выглянуть
та суть, для которой еще вовсе нет названия на языке людей, та суть, которой соответствуют Ваши новые слова. То, что они вызывают в душе, не навязывая сейчас же узкого значения – ведь так?» (1) .
Крученых писал не только чисто заумные стихи, на «собственном языке». Но уже во второй половине 20-х годов его перестали допускать в печать, а после гибели Маяковского в 1930 году выбросили из литературы, разрешив остаться жить в качестве коллекционера и московского чудака, поражавшего многих начинающих советских поэтов эрудицией, оригинальностью мышления, тонким чутьем стиха, и наконец своим совершенно поразительным чтением. О том, как Крученых читал свои стихи, ходили легенды. Поэт Валентин Хромов вспоминает, что Николай Асеев в своей квартире подтягивал люстру, чтобы Крученых в экстазах чтения
случайно не разбил ее.
Рисовальщик с большим дарованием, окончивший Одесское художественное училище, Крученых шел в поэзию через изобразительное искусство. Новая живопись отказывалась от искусственного жизнеподобия – ведь роза на холсте, даже тщательно выписанная, не равна природной розе. Новая живопись предлагала иной вариант, постижения тайны мира: линия, цвет, пространство, смена: перспектив – вот что стало во главе угла, европейской живописи. Западные художники осваивали восточный опыт, африканское искусство. Россия – восточно-западная страна – сама в себе со держава огромнейший опыт искусства своих многочисленных народов. «Левые» художники, очень, разные по своим творческим манерам – Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Давид и Владимир Бурлюки, Василий Кандинский, Михаил Ларионов, Казимир Малевич, Павел Филонов и еще многие и многие, — были едины в одном: они, шли к непознанному, к той выразительности, которая опрокидывала устоявшиеся представления о мире, но позволяла ощутить этот мир в его первозданности.
Вот здесь, на этом острие, был Крученых. Уже первые книги «Игра в аду» и «Старинная любовь» были им сделаны а сотрудничестве с художниками Н. Гончаровой и М. Ларионовым. Явился новый тип рукописной книги, где почерк и иллюстрация создавали единое поле взаимопроницания. Кроме того, «Игра в аду» написана совместно с Хлебниковым, как бы в нарушение всех авторских канонов. Правда, это была ироническая, примитивистская поэма, а иронические стихи и раньше писались в соавторстве (например, группой поэтов, выступавших под именем Козьмы Пруткова).
Крученых произвел революцию в книжном деле, оцененную по-настоящему только много лет спустя. Он выпустил большое количество рукописных самодельных книг, к работе над которыми привлекал разных художников: Хотя футуристы немало теоретизировали по поводу соединения визуальных искусств и словесности, эти книги для Крученых были скорее всего спонтанным выражением его поэтической настроенности. Будучи поэтом и художником и при этом обладая органическим талантом, сильно развитой интуицией, он мгновенно схватывал носящиеся в воздухе идеи и так же мгновенно воплощал их. Идея визуализации словесного образа нависала в то время над художественным миром подобно дождевой туче. Используя образную систему Крученых, можно сказать, что он поймал эту тучу и отжал из нее живительную влагу.
Когда А. Бенуа писал о М, Ларионове: «Нельзя же допустить мысль, что вот и через десять лет талантливейший Ларионов будет дурить и издавать свои скоморошьи альбомчики» (2), он и не подозревал, как близок к истине в этом определении. Именно скоморошье начало одушевляло эти рисованные книжки. Крученых (совпадая здесь с Ларионовым) упорно отстаивал «несерьезное», «легкое» отношение к искусству, в отличие от тяжелого, предельно засерьезненного символистского. И в этом он сближался с далеким для него философом и поэтом Влад. Соловьевым, который определял человека, как «существо смеющееся» и писал довольно резкие пародии на раннего Брюсова. Заметим в сторону, что многие серьезные стихи символистов сейчас воспринимаются с оттенком пародийности, в то время как стихи того же Крученых получили трагическое наполнение. «Комическое выше трагического», – отбронил один философствующий неаполитанский математик.
Крученых был во многом импульсом нового искусства. Рукописные литографированные книги будут выпускать Маяковский с художниками В. Чекрыгиным и Л. Шехтелем, Хлебников с Филоновым. О единении поэзии и графики в футуристических книгах поэт и стиховед Сергей Бобров писал так: «Цепь поперечных и продольных линий, введенная в живопись футуристами и развитых лучизмом Ларионова, дает подобие лирических движений в поэме. Повторяемость контуров и плоскостей-о том же. И центр нового в том, что аналогичность устремлений поэмы и рисунка и разъяснения рисунком поэмы достигается не литературными, а живописными средствами» (3).
Крученых, не утруждая себя такими построениями, заявлял: «Мы рассекли объект! Мы стали видеть мир насквозь».
Оно не только видел мир насквозь, но и слышал – насквозь прозвученный мир. Его слух был обострен. Так, в соавторстве с искусствоведом и литературоведом А. Шемшуриным родилась теория «сдвигологии». По этой эмпирической «теории» едва ли не в любом стихотворении можно обнаружить сдвиг.
Сдвиги – это такие стыки слов в строке, которые рождают непредвиденное слово. Например, у Пушкина «слыхали ль вы» – явно слышатся «львы». Или у Брюсова: «И шаг твой землю тяготил» – «ишак». Но мало слышать сдвиги, Крученых предлагает использовать их творчески в стихах. В своей книжке 1922 г. «Сдвигология русского стиха. Трахтат обижальный (трактат обижальный и поучальный)» он приводит различные примеры, как в результате сдвигов получаются новые слова: «день еще узрюли», «теперья» «важурные» и т.п. Отсюда он переходит к сдвигу рифмы, синтаксиса, образа, сюжёта. Все это подается с типичными для Крученых вывертами, наскоками на противников. Он и здесь скоморошит, мгновенно выхватывает нарушение пропорций в казалось бы выверенном монументе, подставляет ему зеркало – смотрись! И здесь же подхватывает эти нарушения и строит на них свою поэтику. Он вообще, кажется, берет то, что другие отбрасывают, обегают. Грубый, живой материал – будь то неудобопроизносимые звуки или блатной жаргон, восточный акцент или нелепые слияния слов.
Борис Пастернак не случайно называл Крученых «живым кусочком» границы искусства и «обывательщины» и отмечал: «…Ты так крепко держишься за творчество в его первичной стадии, что можно не бояться никаких переходов» (4).
Крученых не описывал жизнь, а чиркал спичкой искусства о коробок жизни, высекая мгновенное пламя – быстрое, обжигающее. Зафиксировать это пламя в книгах было трудно. Более того, в них оно могло предстать искаженным, а то и просто в виде тления. Наиболее полно он раскрывался в своих устных выступлениях. Он писал: «Определенный звукозаряд поэта сдвигает его, содержание в определенную сторону – поэт зависит от своего голоса и горла!» (5).
В связи с этим интересны свидетельства современников. Вот одно из них, его приводит автор первой книги о Крученых С.М. Сухопаров: «Выступал Крученых и беззастенчиво крутил «великий русский язык». Декламируя свои нечленораздельны е «дыр, бул, щыл», он сам крутился на сцене волчком, присвистывал, закатывал глаза и завывал, напоминая собой то сибирского шамана, то индийского заклинателя змей… Крученых аплодировали долго. Он снова выходил и «заумно» подвывал. Было жутко и весело (…) Студентки (…), пробравшись за кулисы, качали Крученых на руках и чуть не задушили насмерть» (6). Это было в начале 20-х годов. Через несколько лет после этих триумфальных выступлений даже само имя Крученых было предано остракизму и он с его невероятной энергией вынужден был читать только на квартирах близких друзей.
Алексея Елисеевича записывали на магнцтофон в 60-е годы (это делал, в частности, поэт Геннадий Айги), записи оказались не очень совершенны, хотя все-таки по ним можно получить представление о чтении.
Крученых стремился передать на бумаге особенности исполнения, но это ему, конечно, не удалось. Увы, письмо и звучание не совпадают, хотя поиски в этом направлении интенсивно велись в России в 10-е–20-е годы, возобновились в 60-80-е, ведутся и сейчас. Какие-то указания на исполнение из записи Крученых мы можем получить: где растянуть слово, где его сжать, где выделить слово крупно, где поиграть ассонансами, но любое прочтение, в том числе и авторское; будет интерпретацией. С большей или меньшей степенью приближения к замыслу.
Вот один пример из до сих пор малоизвестного наследия А.Е. Крученых, – стихотворение «Зима», где автор в звуках рисует картину зимы:
Мизиз…
Зынь…
Ициив
Зима!..
Замороженные
Стень Стынь
Снегота… Снегота!..
Стужа… вьюжа…
Вью-ю-ю-га – сту-у-у-га…
Стугота… стугота!..
Убийство без крови…
Тифозное небо – одна сплошная вошь!..
Но вот
С окосевших небес
Выпало колесо
Всех растрясло
Лихорадкой и громом
И к жизни воззвало
ХАРКНУВ В ТУНДЫ
ПРОНЗИТЕЛЬНОЙ
КРОВЬЮ
ЦВЕТОВ…
–У-а!.. – родился ЦАП в дахе
Снежки – пах-пах!
В зубах ззудки…
Роет яму в парном снегу –
У-гу-гу-гу!.. Каракурт!.. Гы-гы-гы!..
Бура-а-а-ан… Гора ползет –
Зу-зу-зу-зу…
Горим… горим-го-го-го!..
В недрах дикий гудрон гудит
ГУ-ГУ-ГУР…
Гудит земля, зудит земля…
Зудозем… зудозем…
Ребячий и щенячий пупок дискантно вотит:
У-а-а! У-а-а!..-а!..
Собаки в сенях засутулились
В тысячи беспроволочных зертей
И одна ведзьма под забором плачут:
3А-ХА-ХА – ХА! а-а!
3а-хе-хе-хе! – е!
ПА-ПА-А-ЛСЯ!!!
Па-па-а-лся!
Буран растет… вьгозга зудит…
На кожаный костяк
Вскочил Шаман
Шамай
Всех запорошил:
Зыз-з-з
Глыз-з-з
Мизиз-з-з
З-З-З-З!
Шыга…
Цуав…
Ицив
ВСЁ СОБАКИ
СДОХЛИ!
Картина развернута фантастическая, местами завораживающая, очень «футуристическая» и очень близкая к… народным завиральным историям. Вот это – «все собаки сдохли!» – очень точное указание на происхождение текста. Здесь есть несколько, не очень ясных слов, мы не будем их расшифровывать, они как бы входят в авторское задание – передать ощущение о круговерти вьюги, где трудно разобрать право и лево, легко принять солнце за колесо (впрочем, это народный образ), в слове сбиться на польский акцент («ведзьма») или произнести невзначай по украински ЦАП – козел. Крученых достигает здесь высокой экзальтации, заводясь, закручиваясь от звучания слова.
О самом письме Крученых можно сказать, что в него он входил вполне сознательно, а дальше уже двигался по внутреннему слуху. И хотя не всегда ему удавалось выруливать в нужном направлении, он добивался завершенности произведения. Своего рода саморегуляция дыхания.
Борис Пастернак, высоко ценивший органик у дарования, писал о Крученых: «Там, где иной просто назовет лягушку, Крученых, навсегда ошеломленный пошатыванием и вздрагиванием сырой природы, пустится гальванизировать существительные, пока не добьется иллюзии, что у слова отрастают лапы» (7). Точное, пронзительное определение. Крученых делал слово почти предметом, явлением, вещно. Его слово прыгает во времени, допрыгало до нас.
Борис Слуцкий, сочувственно относившийся к Алексею Елисеевичу, посвящавший ему стихи, сильно ошибся, когда напитал: «Крученых был отвлекающей операцией нашего авангарда, экспериментом, заведомо обреченным на неудачу» (8) . Это совсем не так. Мало того, что Крученых создавал поле поиска в футуристическом кругу, работая совместно с Хлебниковым, Бурлюком, Маяковским, Каменским, Гуро, и по-своему стимулируя их поиски, оказывая воздействие также на соседние футургруппы (Игнатьев, Гнедов), в 20-е годы он оказал влияние на конструктивистов А.Н. Чичерина и И. Сельвинского, на младшего футуриста Семена Кирсанова, на обэриутов, не избегнул его влияния и Асеев; Пастернак, Леонид Мартынов прислушивались к нему. На неудачу все поиски вообще – были обречены политикой партии «в области литературы и искусства». Но Крученых проникал, отзывался в стихах других.
«Ночь легла в безжизненных и черных
Словно стекла выбил дебошир…
Но не ночь, а – как сказал Крученых –
Дыр–Булл–Шил…»
писал в 1939 г. Николай Глазков. Стихи эти были опубликованы только в 80-е годы. В 60-е годы творения Крученых были востребованы целым рядом поэтов. Так или иначе его достижения учитывались Вл. Казаковым, В. Соснорой, Г. Айги, А. Вознесенским, Г. Сапгиром, И. Холиным, Вл. Эрлем, Ры Никоновой, С. Сигеем, В. Шерстяным, Б. Кудряковым, А. Горноном. Но лишь во второй половине 80-х голов творчество Крученых и многих из тех, кто начинал еще в 60-е годы, выходит к читателю.
Сейчас поэзия Алексея. Крученых воспринимает иначе, чем в 10-20-е годы и позже. Мы находим в его разнообразом творчестве не только эпатаж, не только решение формальных задач, но и прорыв к артистизму в передаче тонких оттенков человеческой психики.
Примечания и литература
1. Цит. по: Примечания П.М. Нерлера А.Е. Парниса и Е.Ф. Ковтуна // Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания. – Л.: Советский писатель, 1989. С. 645.
2. Цит. по: Русская футуристическая книга [автор текста Е.Ф. Ковтун]. – М.: Книга, 1989. С. 6.
3. Бобров С.П. О новой иллюстрации // Вертоградари над лозами. М., 1913. С. 156.
4, Пастернак Б. Взамен предисловия // Алексей Крученых в свидетельствах современников (сост.; вст. ст., подг, и текста и
коммент. С. Сухопарова) – Munchen: Verlag Отто Sagner, 1994. С. 31.
5. Крученых А. Кукиш прошлякам. – М. – Таллины: Гилея, 1992. С. 50
6. Сухопаров С. М. Алексей Крученых. Судьба будетлянина. – Munchen: Verlag Отто Sagner in Kommission, 1992. С. 108.
7. Цит. по: Алексей Крученых в свидетельствах… С. 67.
8. Там же, с. 174.
С.С. БИРЮКОВА, С.Е. БИРЮКОВ
(Тамбов)
ТАЙНЫЙ АВАНГАРДИЗМ МИХАИЛА КУЗМИНА
(Музыкально-поэтический аспект)
Фактически задолго до 1905 и 1917 годов символистская поэзия «разгадала» и предсказала грядущие события. Символистам, а зятем футуристам удалось заглянуть ЗА окружающую их действительность и, порой косноязычно, а порой сладкозвучно выразить невыразимое – гибель, крушение. По сути дела, почти единственное, что осталось от этого мира – поэзия. Может быть, поэтому наиболее чуткие хватались за нее, как за соломинку, – последнюю надежду. Может быть, отсюда – «стихомания» начала 20-х годов, о которой писал Михаил Кузмин, один из тех, кто внутренне противостоял ситуации, не допуская в стихи вселенскую трагедию, предпочитая переживать личные драмы, впрочем, и в стихах от первого лица отходя в тень, становясь еле различимы м, как бы со стороны любуясь то простоватым, то изощренным стихом.
Может быть, это качество творческого поведения Кузмина диктовалось тем, что он вступил в литературу уже зрелым человеком, прошедшим серьезную композиторскую школу у Римского-Корсакова, повидавшим свет. Он явился в пору расцвета символизма, когда литературные репутации многих уже сложились, был принят, печатался в символистских изданиях, со многими дружил, но не обнаружил склонности идти в общем течении. Хотя его именовали «поздним символистом», а поэт К. Липскеров позднее так определял его место: «Если для потоков новой поэзии Брюсов чертил берега, Бальмонт посылал волны, Белый – круговороты, водяные лилии – Гиппиус и тихие затоны – Сологуб, то Кузмин первый воздвиг в розовых оградах лирического сада этот живой и веселый фонтан – фонтан любви, фонтан живой» (1).
С Кузминым трудно. Его постоянно куда-нибудь пытались вписать, например причисляли к акмеизму. Он открещивался. Говорил, что не приемлет никаких школ. Порой, чувствуя необходимость как-то определить сферу влияния своей поэзии, заявлял то о кларизме (ясности), то эмоционализме. Впрочем, тут же оставлял всякие попытки теоретизирования, предпочитая говорить о себе: «Тридцать лет он жил, пел, смотрел, любил и улыбался».
Приводящий эти слова русский филолог Владимир Марков, чьи заслуги в открытии Кузмина трудно переоценить, писал в 1970 г.: «Вообще поэзию Кузмина можно назвать поэзией протекания, красочной фактуры и свободы (…) Протекание означает, что это поэзия не статическая, а стремящаяся, направленная и постоянно эволюционирующая (…) Он не новатор по натуре, но он легко ассимилирует, на свой лад, новшества…» (2) О свободе у Кузмина Марков говорит и вовсе замечательно: «Кузминская свобода – свобода непринужденности, он как будто совсем не строит, к нему само идет…» (3).
М. Кузмин, после сквозного чтения, предстает своего
рода энциклопедией русской поэзии 900-х-30-х годов ХХ века, с ответвлениями в поэзию иных веков и стран. Кто здесь только не ночевал, кто не оставил свой след, окурок, запонку, галстук, чашку недолитого чая… Но вот одна особенность – все резкости, выпуклости современников смягчены и растворены в его полуироническом-полувосхищенном стиле, а он умел иронизировать и восхищаться – свидетельство – его изящная критика с немыслимым охватом тем и видов искусства. Кузмин поистине тайный предвосхититель: то, что еще намечается в поэзии – у него уже есть.
Его первая книга стихов называлась «Сети» (1908), последняя – «Форель разбивает лед» (1929). Форель попалась в сети – невольный каламбур, в котором отсвет драмы. В смысле подтекста Кузмин более таен, чем его современники, часто выносившие символику на поверхность. У Кузмина все зыбко, все мерцает – будут ли это «Александрийские песни» или «Ракеты» в книге «Сети», или «Венок весен», состоящий из 30-ти виртуозных газел, в книге «Осенние озера». Может быть, только «Духовные стихи» в «Осенних озерах» обладают той ясностью, о которой заявлял одно время Кузмин.
Сложность его поэзии начинается уже с того, что стихи идут циклами, охватываются разделами, а выстраивание циклов и раздёлов в книге имеет значение не меньшее, чем рифма или созвучие в строке. Строение книг тяготеет к музыкальной форме: хотя музыкальная терминология отсутствует, можно проследить внутри циклов, разделов, книг лейт-темы репризы, вариации… Музыкальный подтекст как бы оживляет стихотворную ткань, которая, была бы без этого для самого автора мертвой:
Мне с каждым утром противней
Заученный, мертвый стих…
В лице Кузмина русская муза обретает ту ненарочитую полетность, которая казалась утраченной со смертью Пушкина. Его стремительные интонации, где знак вопроса, может не означать полного вопроса, а точка и восклицание могут таить в себе вопрос:
Разбукетилось небо к вечеру,
Замерзло окно…
Не надо весеннего ветра,
Мне итак хорошо.
Может быть, все разрушилось,
Не будет никогда ничего…
Треск фитиля слушай,
Еще не темно
Не навеки душа замуравлена –
Разве зима – смерть?
Алым ударит в ставни
Страстной четверг!
(1917)
Обаяние стиха Кузмина в его ненавязчивости, в неуловимости манеры, в раскрытии чувственной природы поэзии, ее двойственной сути: он соблазняет и соблазняется.
Тончайшая инструментовка (разного рода звуковые повторы – аллитерации, консоиасы, паронимия) в стихах Кузмина гак бы материальное воплощение этой двойственности. В.Ф. Марков в своем предисловии к собранию сочинений Кузмина, вышедшем в Мюнхене, уже выявил большое количество таких повторов, выписывая целые массивы строк из разных книг. Мы попробуем показать разные возможности вхождения этих приемов в стихи.
В двух книгах Кузмина «Вожатый» и «Нездешние вечера» есть два разных стихотворения с одинаковым названием «Пейзаж Гогена», оба написаны в 1916 г. Первое насквозь пронизано звуковыми окликами:
Красен кровавый рот…
тенистый брод
Ядом червлены ягоды
У позабытой пагоды
Руки к небу, урод!
Ярок дальний припек…
Гладок карий конек…
Звонко стучит копытами
Ступая тропами изрытыми,
Где водопой протек.
Ивою связан плот,
Низко златится плод
Между лесами и селами
Веслами гресть веселыми
В область больных болот!
Видишь: трещит костер?
Видишь: топор остер?
Встреть же тугими косами,
Спелыми абрикосами,
О, сестра из сестер!
Созвучия в рифменных парах мы не подчеркиваем, как обязательные. Все остальное видно по нашим обозначениям.
Кузмин работал со звуком, как композитор, даже тишина определялась им как «звуков звучное отсутствие», настолько мир был насыщен звучанием для поэта, который слышал, что «за небом» «Дрожит эфирной жизни веянье»!
Суммируя свои наблюдения над творчеством художника 10. Анненкова, Кузмин замечал: «… Стихия его – движение, переменчивость, еле уловимый жизненный ток, игра граненых поверхностей» (4). Эти слова можно отнести и к самому Кузмину. И он сам искал «почти метафизического сходства», вслушиваясь в звучание тишины, в которой стрекозиное «пение» раздается, как «гром». Кузмин буквально вытягивает из занебесья прозрачную ноту, повинуясь какой-то внутренней тайной струне. Посмотрим с этой точки зрения еще на одно стихотворение – «Античная печаль» (для удобства пронумеруем строки):
1. Смолистый запах загородью тесен,
2. В залив сгинул зеленистый рог,
3. И так задумчиво тяжеловесен
4. В морские норы нереид нырок!
5. Назойливо сладелая фиалка
6. Свой запах тычет, как слепец костыль,
7. И волны полые лениво-валко
8. Переливают в пустоту бутыль.
9. Чернильных рощ в лакричном небе ровно
10. Ряды унылые во сне задумались.
11. Сова в дупле протяжно воет, словно
12. Взгрустнулось грекам о чухонском Юмале,
Перед нами своего рода. порождающая поэтика, которая в отличие, скажем, от излишне волевой поэтики Белого все время пытается скрыться внутри текста, утонуть в нем. Одно слово становится как бы звуковым зародышем другого – словно как бы вытягивает за собой слово. Так в первой строке слово «запах» вытягивает «загородью», затем «за» откликается двум предыдущим из второй строки (причем, здесь игра с озвончением «с» и переход на «зе»), затем отклик из третьей – «задумчиво», в пятой видоизменяется и прячется в «зо», в шестой возвращается к исходной форме, в десятой – почти отделяется, благодаря перелому ритма, и, наконец, в 12-й – «взвизгивает», чтобы окончательно замерёть в слове «взгрустнулось». Все эти рассуждения могут восприниматься, как чистая фантазия, но и само стихотворение фонтанирует фантазией, в том числе, звуковой. Мы проследили порождение, вначале открытое, затем искусно спрятанное. Посмотрим теперь, как лукаво прячет Кузмин другие повторы:
в первой строке первое слово сочетанием «ст» отзвучивает в последнем – «тес», затем переходит почти в конец 2-й стр. – «ст», в 6-й снова в конце, в 8-й почти в середине строки, в 12-й снова в начальном слове. На 12 строк 6 повторов – удивительная гармония.
Заподозрить в игре на «л» несколько труднее, но все-таки: 1-я – ли, 2-я откликается тут же: ли-л-ле, 3-я – ло (еле слышно); 5-я: ли-ла-ал!, 6-я: ле, 7-я (крещендо): ол-ол-ле-ал!, ли-ль, 9-я: ль-ла, 10-я: лы-ли, 11=я: ле-ло, 12-я: ло-ле.
Таким образом, лишь 4-я стр. выпадает из этого перелива, но она является кульминационной в игре с «р» и «н»: ор-нор-нер-кыр! Этому виртуозному нырку предшествует, «ро» в 1-й, окликнутое «ро» во 2-й, после «нырка» пропуск трех строк и снова: 8 – ре, 9 – ер-ро-ри-ро, 10 – ря, 11 – ро, 12 – ру-ре.
Посмотрим еще, как Кузмин приходит к «сове» в 11 стр., где «Сова… воет, словно». 2: в, 3: ов, 4: в, 5: во, 6: свой (почти вой, и почти сова), 7: во-во-ва, 8: ва, 9: ов, 10: во (сне), 12: в.
В «Античной печали» есть и очень простые повторы, например, в 9: ч-щ-ч, или в 12: гр-гр.
Что это означает? Что Кузмин все это высчитывал? Вряд ля. К нему «само шло», но шло к развитому, утонченному слуху, обогащенному консерваторским курсом полифонии.
Это был реванш поэзии после долгих лет насилия, перегруживания различными идеологическими заданиями, чего не избежали и многие символисты.
Тени косыми углами
Побежали на острова,
Пахнет плохими духами
Скошенная трава.
Это невозможно прочитать, как плоско-эстетское сообщение из-за: переклички кос-ско в 1 и 4, из-за: ос-ос в 1 и 2, из-за: ах-ох-ух в 3!
В.Ф. Марков справедливо пишет о М. Кузмине: «…Он по-своему был поэтом авангарда, то есть искусства, принципиально строящего на смещении и переплетении планов или на перераспределении элементов» (5). Это несколько сурово-научное определение Кузмин полностью подтверждает своими книгами «Парабола» и «Форель разбивает лед», в которых «смещения, переплетения и перераспределения» нарастают панорамически, но, кажется, в еще большей степени шифруются.
Поэт, чей стиль восходит к «легкой поэзии» Батюшкова, остается едва ли не самым тайным в русской поэзии вообще.
Примечания и литература
1. Цит. по: Лавров А., Тименчих Р. «Милые старые мифы и грядущий век». Штрихи к портрету М. Кузмина // Кузмин М. Избранные произведения. Л.: Худож. лит., 1990. С. 11.
2. Марков В.Ф. О свободе в поэзии. Пб.: Изд. Чернышева, 1994, с. 145-146.
3. Там же, с. 39.
4. Там же, с. 121.
5. Там же.
Стихи М. Кузмина цитируются по изданию: Кузмин М. Избранные произведения. Л,: Худож. лит., 1990.
В.Г. Руделев, Н.Г. СЕРЕБРЕННИКОВА
(Тамбов)
МЕХАНИЗМ ЭПИТЕТА
Эпитет является сложной синтаксической структурой, и механизм его образования в поэтической речи неоднозначен. Рассмотрим эти механизмы на примере лирики К. Бальмонта. Возьмем случай образования эпитетов на базе существительного, например, слова «рубин». Его адъективная форма в поэтической речи преобразуется в качественно-предикативное слово («рубиновый огонь»), то есть от него теперь можно образовать степени сравнения, краткие варианты, субстантивные, наречные и безлично-предикатные формы. Эпитет «рубиновый» будет маркированным по отношению к адъективной форме и, следовательно, по законам словообразования, будет на одно значение больше. Затем от этого качественно предикативного слова («рубиновый») образуется другое прилагательное – «рубин» («рубины всех расцветов»), которое маркировано, в свою очередь, по отношению к прилагательному «рубиновый» и больше его на одно значение. Последовательность образования этого эпитета («рубин») от прилагательного – обратно процессу образования адъективной формы от существительного. Поэтическая речь позволяет создавать слова и с принципиально новыми оттенками качественности – такие, как «расплавленный рубин». Данное определение будет маркировано по отношению к прилагательному «рубин» и, опять же, больше его на одно значение. Таким образом, можно построить последовательную цепочку образования эпитетов, каждый последующий член которой будет маркированным по отношению к предыдущему и больше его на одно значение.
Существуют и примеры структурно сложных эпитетов («желтоогромная луна»). Здесь имеются два качества, причем одно содержит в себе другое, как бы вложенное в него.
Другой вариант сложного эпитета – «легкозвонные косы». Здесь качественное прилагательное получается путем соединения качественного наречия «легко» и наречной формы глагола «звенящие». Это не простое грамматическое преобразование. В результате появляется новое качество, какой-то дополнительный оттенок.
Функции эпитетов, механизмы их построения – очень разнообразны. Эпитеты – это то, что создает живую, красивую речь, избавленную от шаблонных выражений, то, что позволяет расширить рамки языкового мышления, открывает перед словом новые возможности.
М.Ю. ГАВИН (Тамбов)
КОНТАКТНОСТЬ СЛОВА И РОМАНСОВОСТЬ ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ АПУХТИНА
Алексей Апухтин чувствовал языковую платформу романса и очень умело, плодотворно ею пользовался. Романсовая стихия – это вообще весь поэтический XIX век, но у Апухтина, в отличие, например, от Фета, основное (смысловое и музыкальное) место в романсове.м тексте принадлежит при знаковой и процессуальной, в частности, лексике.
Для Апухтина чрезвычайно характерен взрыв чувства лирического «я» и разбросанность его по разным сторонам композиции романса. Сама природа лексики апухтинского романса чиста и непритязательна: эта лексика, во-первых, традиционна и общедоступна из-за своего понятийного космоса, с которым мы сталкиваемся так же, как и не расстаемся, о чем-либо думая; во-вторых, слово романса подвижно в тексте и, что очень важно, напрямую соотнесено со своим ядер ним, центральным значением; в-третьих, романс требует только чувственного в себе разрешения и поэтому обильно поливает человека такими духовными субстанциями, как «сердце», «душа», «мука», «боль», «жалость», «любовь», «вера», «трепет», «скука», «тоска», «ревность», «счастье», «грусть» и т. д. Может быть даже, самое важное слово в романсе, согласуясь благодаря художественной ситуации с другим словом, непроизвольно оказывается, с точки зрения, допустим, авангардного миропонимания, чем-то ущербным, банальным – короче говоря, штампом. Но понятно, что старая эмоциональность в новом образном контексте сосредоточивает внимание именно на самом движении чувства, на ею экспрессии, а не па предметности происходящего или происшедшего, что бывает при употреблении нового образа. Начинается же романс в слове и, что, очень знаменательно, именно слово через романс выпрашивается музыкой, а не наоборот, что характерно для современной эстрады.
Слово своими прелестями, своими потаенными силами извлекает музыку, двигаясь в определенную мелодию и полностью отождествляясь с ней. В романсе слово – это уже музыка. Вообще каждое апухтинское произведение движется чувством. Чувство в человеке, как и человек в чувстве, имеет свои время и положение; всякое чувство, исходя из этого, линейно, т.е. находится в движении по линии: от своего зарождения до упадка. Чувство исповедально. Чувство мгновенно или длительно. И чувство необыкновенно пластично в словах, над которыми оно закрепляется через романс.
Пластика чувства Апухтина проста; по своей величине Апухтин – последний пушкинист в русской поэзии; он завершил строительство пушкинского, Сердца и Мысли в нашей литературе. Движение же чувства зависит от многих качеств: интонации, тона, легкости, интенсивности, громкости, высоты и формы повторения (т.е. форма повторения чувства разнообразна и соответствует в отдельности и по возможности большинству геометрических фигур). Схема чувств А. Апухтина вообще очень типична для классика. Для выражения себя и сейчас (т.е. чувства) весьма важно ощущение такой языковой идеи, как идея контактности слова. Говоря о таком устойчивом словесном свойстве, как контактность, нужно понимать и разделять две его разные по существу сторону – понятийную (идейную) контактность и контактность произносительную, слуховую, мелодическую.
Первый случай определяет закономерность в рождении новых речевых смыслов, а второй – музыкальное или немузыкальное течение речи. Совпадение в одном конкретном про явлении обоих словесных модуляций есть сильное слово, которое представляется такими известными оборотами, как «слепая страсть», «изнывшая душа», «жгучие слезы», «безумные ночи», «безумный пыл», «бесплодные мечты», «черные мысли» и т. д., очень часто посещающие именно апухтинский романс. Сильные слова – поэтизмы, символы; они подвижны в речи, активны, они редко испытывают влияние времени и почти не расстаются с наиболее активным словарем языка. Сильные слова – монолитные сплавы наиболее близких по смысловому объему слов, которые заостряют внимание человека именно на типичности одного для другого в данной синтагме: «мечта» – «безотрадна», а «страсть» – «горяча», она даже может быть «жаркой»; «похвала» всегда «холодна» и т. д.
Большое количество сильных слов возносит всякое высказывание уже в классическое свое звучание и в зависимости от жанровой природы текста. Апухтин, да еще. Надсон, – самые сильнословные авторы XIX века! Количество сильных слов на одну тему, как и их устойчивость и настойчивость в круговоротах композиций, – это уже воплощенная экспрессия, которая самой музыкальной своей частью и реализуется в романсе. Следует отметить и колоссальный пласт слов наречного, значения в составе сильных синтагм романса, что, вероятно, связано с тем, как ведут себя наречные идеи пространства и времени при столкновении с идеями процесса или предмета:
«море улыбки», «море зла», «море коров», «море радости», «море леса» и т. д.
Не принимая во внимание сами «прыжки» понятий среди этих приведенных случайно, слов, мы можем утверждать, что они имеют внутри себя определяющие пространство, время и число параметры и качества, а так как категории пространства и времени постоянны, то и путешествия таких слов от одной необыкновенной синтагмы (сильного слова) к другой тоже постоянны. А все, кстати, когда-то необыкновенное – сегодня естественно и даже штампованно в нашем реактивном от количества информации сознании.
Вообще же ток апухтинских слов очень легок для восприятия и приятен для слуха, что позволяет очень и очень верно сравнить его на уровне прозы с Гончаровым.
В завершение нашего рассуждения скажем. Слова, придуманные природою, музыкальны. Слова, непосредственно созданные человеком, стремятся к музыкальным, натуральным, но либо, отвергаются самой музыкой, либо принимаются ею и, будучи приятными для слуха, образуют полисемию, т.е. постепенно входят в активный язык и через него в новые романсовые кольца.
Романс – мерило языка, поэтому забывать о нем нельзя: это чревато утратою русской классической музы. Романс вообще не контрастен в своем организме, но именно эта его волнообразность и поразительно мелодична, и так выпукла в громкой и ручьистой поэзии Алексея Апухтина.